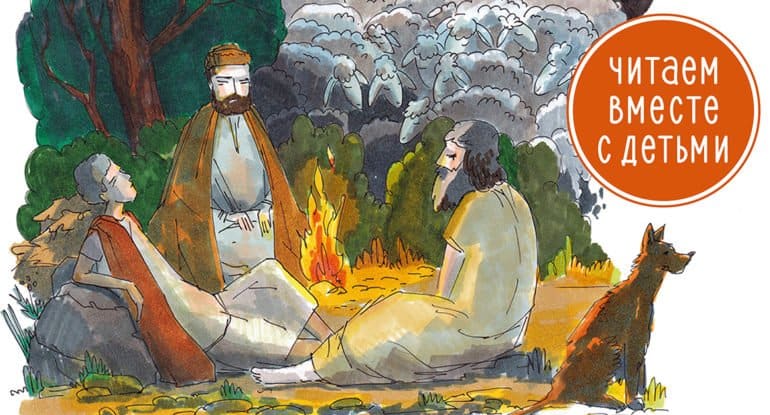Не так давно вышел в свет спецвыпуск журнала «Фома», посвященный Году Учителя. На его страницах самые разные учителя — из светских, частных школ и православных гимназий рассуждают о том, какова сегодня роль учителя в школе. Опыт одного из героев спецвыпуска — учителя Елены Литвяк – нам показался заслуживающим особого внимания, и мы решили опубликовать его на страницах сентябрьского номера «Фомы».
В детстве я думала: как скучно быть учителем! Заучи на память несколько учебников и пересказывай их без конца, каждый год одно и то же. Кто бы мне сказал тогда, что все это, слава Богу, неправда! Что не бывает в учительской жизни двух одинаковых дней, даже двух совершенно одинаковых уроков, что открывается возможность бесконечного образовательного путешествия, в котором всякий раз по-новому предстают и дети, и сам учитель, меняются представления о ребенке, о человеке вообще и даже о смысле жизни.
Нельзя сказать, что мой учительский путь был раз и навсегда определен. Я училась на истфаке Московского университета, но уже мыслила себя в будущем не только учителем. Мне был интересен Ребенок с большой буквы. Мир детства был для меня, двадцатилетней барышни, неким идеальным миром — и он, безусловно, был лучше мира взрослых. Мне хотелось постичь природу детства, найти общий язык с любым ребенком, вне зависимости от возраста, социального положения и состояния здоровья. Я ощущала педагогику не как источник заработка, а как пространство призвания, служения. Своих детей у меня еще не было, поэтому все ошибки и преткновения на педагогической дорожке выпало пока проживать с теми детьми, что оказывались рядом.
Еще учась в университете, я стала преподавать в известной в 90-е годы московской авторской школе. На волне перемен в политике образования таких школ тогда возникало много. В конце девяностых я сознательно пришла в Церковь и решила послужить ей именно в качестве педагога. Потому несколько лет проработала в воскресной школе при храме в подмосковном селе Рождествено. Школа эта меньше всего была школой. Это был такой социальный клуб, приют для никому не нужных местных ребятишек. Именно из этой воскресной школы вскоре выросла негосударственная православная школа «Рождество».
Такова внешняя оболочка событий. Но со временем приобретались не только учительский опыт и навыки взаимодействия с детьми. Менялось представление и о ребенке, и о смысле учительства.
Только радость?
Настрадавшись в детстве от жесткого стиля преподавания наших учителей, от равнодушия взрослых, в двадцать лет я твердо решила: пусть каждый ребенок, который встретится на моем жизненном пути, будет напитан радостью. Никаких криков, полная свобода и взаимное уважение.
Потому два первых года в той самой авторской школе у меня не было учительского стола с ящиками и горой тетрадей. Класс — это место, где главное — дети, а не учитель. Уроков, в привычном школьном смысле, не было. Скорее, это была индивидуальная работа каждого ученика по собственному образовательному плану и совместные проекты для всех. Учиться ребятам было интересно и легко, домашних заданий и отметок тоже не было. Родители недоумевали, а я твердо защищала перед ними важность детского спонтанного интереса. И даже не подозревала, что он окажется миной замедленного действия.
«Отведав» новой жизни, дети быстро охладели к учению, стали лениться. Это был первый тяжелый урок. Рассыпалось на кусочки радужное представление о ребенке — мол, окружи его множеством интересных и полезных занятий, и он будет учиться сам. Вот и нет! Дети оказались неспособными к самостоятельному, системному и постоянному труду.
Умиление от первого общения с детьми сменилось в юношеском сердце недоумением и злостью. Откуда мне было знать тогда, что еще в IV веке говорили отцы Церкви про исковерканность человека злом, про необходимость постоянных усилий, чтобы быть человеком, про то, что без помощи Божией это и невозможно. Тогда я была просто восторженной светской барышней.
И я решительно взялась исправлять ошибки. Внешняя свобода в школе во многом была ограничена, дети научились трудиться рядом, не мешая, но даже и помогая друг другу. Но настоящей внутренней свободы, с ответственностью за мысли и поступки, с желанием пользы для другого, не получалось.
В плену красивых идей
Кроме того, выяснилось, что тот образ ребенка, который меня доселе вдохновлял — был именно моим образом. Я лепила своих учеников такими, какими представляла себе идеальных детей. Страшно было признаться тогда, что образ этот придуман для осуществления моих собственных образовательных задач, Мерилом педагогики оказывалась я сама, с моими представлениями о жизни и человеке.
В этом была чудовищная ошибка — я абсолютизировала неабсолютное. Больше того, опыт, приобретенный в работе с детьми из благополучных семей среднего класса, был расценен мной как опыт, который можно применить ко всем детям. И незамедлительно последовало еще одно горькое разочарование. Это было уже на новом месте — в воскресной школе при храме. Именно там Ребенок с большой буквы стал просто ребенком, повернувшись ко мне, учителю, совершенно неожиданной своей стороной.
Войдя в конце девяностых в Церковь, я с радостью бросилась служить Богу тем, что уже умела. Решила: раз ты учитель — иди к детям, в школу при храме. Не обошлось и без неофитского энтузиазма, и без чрезмерного богословствования... В голове родилась еще одна прекрасная идея — дать возможность деревенским детям, прибившимся к храму, жить по-человечески: не драться, не материться, путешествовать, читать книги. Все казалось так просто!
Но очень скоро оказалось, что надо быть готовым ко многому.Например, научиться различать жизнь детей «домашних» и «уличных», разбираться в мотивах их действий, а ведь они часто совершенно не совпадают. Или, например, согласиться (не без сердечной боли), что для этих последних школа никогда не будет просто школой, куда приходят учиться и, выучившись, уходят. Школа для «уличных» имеет смысл только как остров спасения, где с ними надо быть все время, отдавая себя целиком и не рассчитывая на ответную любовь. Деться таким детям некуда, приходится болтаться на улице. Вот они и прибились к храму — здесь тепло, не бьют, кормят, еще и везут куда-то. Ну ладно, будем вашему Богу молиться…
В приходской воскресной школе, она же подростковый клуб, работали семь дней в неделю, приходилось учить всему — даже пользоваться общественным транспортом, вилкой и носовым платком. То есть учить само собой разумеющимся вещам. Малыши, забывшись, частенько называли мамой. Это льстило юношескому самолюбию. Я, вдохновленная желанием помочь, спасти, вразумить, как-то быстро забыла, что эти дети пришли в школу именно приткнуться и отогреться. И как только они поняли, что, оказывается, нужно что-то менять в себе, трудиться руками, умом, душой — класс опустел. Несмотря на захватывающие походы и новые впечатления, дети могли не приходить неделями, а потом внезапно нагрянуть, могли пообещать и не сделать, обмануть и даже украсть деньги из учительского пальто.
Это было больно. Значит, все зря? И что делать? Плакать? Уйти, хлопнув дверью? Нет уж! Теперь у меня была молитва, Таинства Церкви, круг приходских друзей — я была не одна в своих педагогических странствиях.
Тогда я поняла, что неправильным был изначальный посыл: устраивать школу для деревенских детей при храме, опираясь на традиции церковноприходских школ девятнадцатого столетия. Во-первых, никакие они не крестьянские дети, у многих и огорода не было. Большинство — дети переселенцев, приехавших сюда в поисках работы. Родителям не до них: накормить бы, заработать, устроиться, выжить… А мы к ним — с классической русской литературой, с путешествиями к памятникам старины… Во-вторых, представления о добре и зле у человека девятнадцатого столетия, воспитанного на Евангелии, были вполне определенными и очевидными. И когда он совершал подлость, всегда знал, что это грех. А есть ли сейчас, в веке двадцать первом, такие нравственные ориентиры? Что очевидно для одних, неочевидно и неабсолютно для других. И дети с малолетства растут в этом пространстве всеобщей относительности. Значит, опять мимо — опять идея отдельно, реальные дети отдельно.
Эти ребята вернулись в привычный им мир, никто не остался ни в храме, ни около. Сейчас они выросли, у некоторых семьи. При встрече на деревенской улице многие из них здороваются. Первыми. Может быть, все-таки и не совсем безнадежным был этот проект?
И все начинать сначала…
Чего мне тогда особенно недоставало — так это трезвого видения реальности и готовности начать все сначала. А еще не воображать себя спасителем этих детей. Спаситель у всех нас один.
И мы начали все снова. Это была третья школа в моей жизни, которую строили с нуля. Только теперь делали не приходской подростковый клуб, а настоящую общеобразовательную православную школу. Этой осенью первые наши ученики, бывшие приходские малыши, пойдут уже в девятый класс. Кто-то приходит в школу пешком, кто-то приезжает на велике, кто-то на электричке, кто-то — на иномарке. Все перемешалось, как в плавильном котле, и каждому нашлось место. Как в Церкви, где несть ни эллина, ни иудея…
Я уже давно живу не только в пространстве идей и теорий. Возле компьютера скачут двое моих детей, дочка и сын. Может быть, теперь можно сказать, что я знаю, «как любить ребенка», как написал когда-то Януш Корчак? Теперь-то я знаю, что это значит — быть учителем?
Не думаю, что вообще может быть на это окончательный ответ. Скорее, некие ориентиры в продолжающемся педагогическом странствовании. Однажды встретила фразу — «Бог любит каждого больше всех». Мы так любить не умеем. Нам это трудно. Но если в нас — образ Божий, значит, мы призваны именно к такой любви? Или это опять очень высокая планка?
И все-таки только в этом вижу смысл учительства, да и смысл отношений взрослого и ребенка: терпеть, прощать и любить. А значит — не искать своего, ведь так у апостола Павла? Не искать в ребенке своего отражения, осуществления своих замыслов, даже самых благих. Иметь отвагу любви — когда знаешь, что человек может поступить не так, как ты ожидаешь. И не бросать его в этой свободе выбора, а постоянно молиться за него, доверяя наши жизни Богу. Любить — значит видеть в ребенке не только ученика, в которого нужно вкладывать, но личность, пусть даже еще только становящуюся. При этом — не обожествлять, не абсолютизировать детство, противопоставляя его взрослой жизни. И не уравнивать их, ведь у каждого времени свои задачи и смыслы.
Терпеть — значит быть уверенным, что добро побеждает зло. И быть очень осторожным, помня о хрупкости человека: в одночасье он может повернуть на совершенно другую дорогу, чем та, по которой он шел.
Прощать — значит быть готовым начать все сначала. И при этом не воображать себя Богом.
Фото Владимира Ештокина