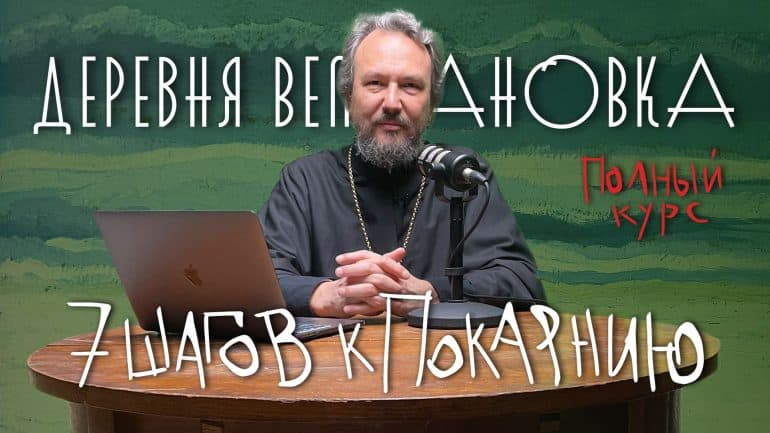Годами каюсь в одном и том же грехе, но не могу от него избавиться. Что делать?
В редакцию «Фомы» пришел вопрос читателя:
Я раз за разом грешу и исповедуюсь в одном и том же грехе. Священник призывает меня его преодолевать, я тоже этого хочу, но ничего не получается. А в Писании говорится, что грех не дает наследовать Царство Небесное. Меня это очень волнует. Получается, исповедь ничего не меняет? Как же быть? Что делать с грехами, рабом которых ты остаешься?
Что такое грех, и в чем смысл исповеди, если после нее все равно грешишь? Что делать, если кажется, что духовная жизнь зашла в тупик? Об этом мы беседуем с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем московского храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке.
Церковный человек, согрешив, приходит на исповедь и кается. Но если из раза в раз приходится исповедовать один и тот же грех, поневоле задумаешься: что дает такая исповедь? И что вообще в такой ситуации делать?
Действительно, когда борешься со своими страстями, может возникнуть ощущение, что исповедь не приносит плода. В этом состоянии мы можем на собственном опыте понять, о чем говорит апостол Павел в седьмой главе Послания к Римлянам: Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю (Рим 7:19). Но тут важно помнить, что таинство Исповеди — это не только действие: «покаялся — очистился», но и путь исцеления. Да, человек может годами каяться в одном и том же грехе, и только спустя время Господь вознаграждает его за этот труд избавлением от греха.
Собственно, грех — это и конкретный греховный поступок, и греховная страсть. Но если поступок мы еще можем совершить один раз и после исповеди больше не повторять — к примеру, негневливый по природе человек может однажды выйти из себя, покаяться и впредь держать себя в руках, — то со страстью дело сложнее. Страсть — это греховный навык, ставший привычкой, и искоренить ее намного сложнее. Не зря святые отцы сравнивают ее с корнем, из которого произрастают прочие грехи. Вот побрился человек, щеки стали гладкими, но фолликулы-то под кожей остались, и через некоторое время щетина снова отрастает. Так и с грехом: мы раскаялись в нем, но корень зла в нас живет, и из него произрастает новый грех. И лечится это годами, а иногда и десятилетиями.
Так что же в таком случае избавляет от греха — помощь Божия или наши усилия?
Помощь Божия — в ответ на наше желание, о котором свидетельствует наш труд. От нас только требуется постоянно духовно трудиться, и тогда исцеление обязательно произойдет. Одно из определений Бога в Священном Писании — дающий молитву молящемуся (см. 1 Цар 2:9). Иоанн Лествичник объясняет это так: качество молитвы является следствием ее количества («Лествица», Слово 28). Да, мы можем долгое время молиться рассеянно, отвлекаться, но, если продолжать трудиться, рано или поздно молитва из сухой и безжизненной превратится в горячую, искреннюю, со слезами и прикосновением благодати Божией.
То же самое и с покаянием. Если не опускать рук, регулярно ходить на исповедь, каяться — пусть даже в одних и тех же грехах,— рано или поздно получишь помощь Господа.

Приведу пример из жизни: одна наша прихожанка, с детства привыкшая соблюдать уставные правила, выйдя замуж, продолжала соблюдать посты, читать утренние и вечерние молитвы — для нее это было несложно. А потом она забеременела, и оказалось, что во время Великого поста она просто физически не может обойтись без скоромного — кстати, беременные и по уставу не обязаны строго поститься, — и на исповеди со слезами каялась, что только теперь поняла, что все предыдущие годы пост для нее означал только телесное воздержание, и больше она ничего не могла принести Богу в дни поста. И это откровение было даровано ей за тот труд, который она несла все предыдущие годы, исполняя церковный устав, регулярно исповедуясь и причащаясь Святых Христовых Таин. Так Господь открыл ей духовное зрение, чтобы она могла дальше возрастать духовно.
Любой духовный труд — аскеза, соблюдение постов, регулярная исповедь — обязательно будет вознагражден Богом. Поэтому лучшее, что можно посоветовать, когда кажется, что духовная жизнь зашла в тупик, — это не думать, что твоя борьба бессмысленна, а продолжать трудиться и просить у Бога помощи, несмотря ни на что.
Но ведь если на протяжении длительного времени побороть страсть не получается, можно разочароваться в исцеляющей силе исповеди, впасть в уныние или даже отчаяние...
А что такое уныние и отчаяние? Это оборотная сторона гордыни. Смиренный человек вообще никогда не унывает, что бы с ним ни произошло. А если из-за того, что не можешь справиться с грехом, начинаешь заниматься самоедством и смотришь на себя как на никудышного христианина, это сигнал, что в твоем сердце живет гордыня.
Достижение смирения — это вообще один из самых главных критериев успешного духовного пути. Бывают ситуации, когда само исполнение заповедей становится пищей для гордыни, хотя мы этого даже не замечаем. Тогда Господь может нас лишать своей помощи в борьбе со страстью, чтобы мы осознали свою немощь и смирились. Богу важнее, чтобы мы были не подвижниками, а смиренниками. У преподобного Марка, который, кстати сказать, назван Подвижником, есть такие слова: «Бог дает благодать человеку не за добродетели и не за труды, понесенные ради их приобретения, а за смирение, полученное во время этих трудов».
Когда я учился в семинарии, я попал Великим постом в келью одного монаха. К нему пришли братия, достали конфеты из молочного шоколада и стали их есть. А на мой недоуменный взгляд сказали, что это духовник посоветовал один раз в пост совершать этот грех, чтобы никто потом не мог похвалиться: я, мол, выполнил все.
Может, конечно, показаться, что Христос хочет, чтобы мы, лишившись его помощи, чувствовали себя немощными, растоптанными и недостойными — а это чувство никак не сочетается с призывом радоваться, которым наполнено Евангелие. Но дело в том, что без смирения радость будет ненастоящая. Стяжание смирения — это необходимое условие, чтобы вкусить истинную, духовную радость.
Но ведь даже апостол Павел испытывал отчаяние от того, что делал зло, которого не хотел…
Отчаяние апостола Павла — это не разочарование в исцеляющей силе таинства, а разочарование в себе самом. Да, чтобы духовно преуспеть, человек должен отчаяться в возможности самостоятельно, без Бога преодолеть грех и спастись. Но это не то отчаяние, которое заставляет тебя опустить руки, это просто духовный реализм. Осознание своей немощи рождает упование на Бога, воззвание к Нему как к личному Спасителю, которое всегда сопровождается радостью. Казалось бы, происходит сочетание несочетаемого: полное разочарование в себе и радость от того, что Господь может тебе помочь. Но в этом кажущемся противоречии и кроется ключ к духовному преуспеванию.
А как быть с грехами, которые человек осознает, но в данный момент еще не готов искоренять? Например, он курит и понимает, что курение — это грех, но не готов начать борьбу с ним. Стоит ли в этом случае исповедовать этот грех на каждой исповеди?
Я думаю, стоит. И признаваться, что нет решимости начать бороться, тоже стоит. И за это малое усилие — регулярное исповедание греха — дастся понимание тяжести греха и его отторжение.

Кому-то грех курения кажется просто вредной привычкой, которая не влияет на нравственные качества человека. Но дело в том, что вся православная аскетика построена на систематическом преодолении в себе плотского человека ради того, чтобы стать человеком духовным. Для этого преодоления нужна воля, а она поражена грехом. И получается, наша задача — тренироватьволю к победе над нашими слабостями. А ежедневное курение, наоборот, «тренирует волю» на поражение: зная, что курить плохо, мы по несколько раз за день говорим своей воле: «Молчи». И слабеем. А потом, когда нужно употребить волю на что-то более существенное, оказывается, что она не работает.
А если человек регулярно кается в грехе, он со временем увидит, насколько этот грех ему вредит, и дорастает до того, чтобы начать с ним бороться.
Но ведь человек может просто поставить себе слишком высокую планку и не взять ее.
Такое бывает. Я помню, как один мой знакомый поступил в конце 80-х в семинарию с четким планом через два года стать прозорливым, а через четыре — начать творить чудеса. Он почти ничего не ел, был практически на всех богослужениях, но ни прозорливости, ни чудотворства он не обрел. В подвижничестве мы должны всем своим существом прочувствовать слова Христа: Без Меня не можете творить ничего (Ин 15:5). Эти слова относятся прежде всего к духовной жизни: быть успешным в мирской жизни без Христа можно, а вот в духовной — нет.
Постепенно набираясь опыта духовной жизни, мы убеждаемся в фатальной поврежденности нашей природы грехом. Поэтому признаком настоящей духовной жизни святые отцы называют сердечную боль, возникающую от полного несоответствия между тем, каким я должен быть, и тем, какой я есть, точнее — между моим падшим состоянием и тем, что, несмотря на него, Господь меня любит.
Не получится ли при таком подходе, что человек успокоится и перестанет понуждать себя к какой-то духовной работе?
Нет. Та самая сердечная боль не даст такой возможности. Иоанн Златоуст пишет, что единственное, что разделяет человека с Богом, — это грех. Поэтому христианин, который по-настоящему Бога любит, ощущает грех как боль, как свое личное горе.
Безусловно, исцеляет нас от греха Господь, поэтому нам нужно уповать на Промысл Божий, но и самим продолжать трудиться над очищением своей души.
Нужно ли бороться со всеми грехами сразу или это надо делать постепенно?
Знаете поговорку: чем ярче свет, тем сильнее тень? Приближаясь к Богу — источнику света, — человек отчетливее начинает видеть глубину своего падения. И все, что в данный момент он осознает как грех, должно представлять предмет его духовной работы. Другое дело, что степень интенсивности этой работы по отношению к разным грехам может быть разная.
Есть смертные грехи, которые преграждают нам путь в Царствие Небесное. Безусловно, таких грехов христианин старается не допускать, и они являются предметом его самого пристального внимания. Что касается менее грубых грехов, то и с ними необходимо вести серьезную борьбу. Серафим Саровский говорил, что святые от обычных людей отличаются именно решимостью бороться с грехом. А мы, христиане, все призваны к святости, поэтому всем нам необходимо проявлять решимость в духовной брани.

Есть конкретные практические советы древних подвижников, как бороться с грехами. Например, распространенный совет посвящать пост борьбе с определенным, самым значимым в данный момент грехом. То есть сконцентрироваться на чем-то одном, направить силы именно на эту страсть. Другое важное наблюдение древних отцов: первая страсть, с которой нам нужно начинать бороться, — это чревоугодие. Если человек не борется с чревоугодием, остальные страсти ему не победить. Поэтому постам уделяется столько внимания в жизни христианина.
А что делать, чтобы исповедь не превращалась в формальность?
Когда человек стяжал настоящее покаяние, ему не нужны никакие подсказки, он и так ощущает в душе его плоды: мир, тишину, прощение. Но не стоит смущаться, если с нами пока такого не происходит. Наша задача — трудиться, понуждая себя к покаянию из глубины пусть даже и сухого сердца, и Господь непременно дарует духовные плоды именно в тот момент, когда это будет нужнее всего.
У преподобного Исаака Сирина есть такие слова: «Покаяние — это трепет души перед вратами рая». Иными словами, живя на земле, войти в рай мы не можем, но искреннее покаяние подводит нас прямо к его вратам. И в этот момент от рая нас отделяет только оставшееся время нашей жизни. Эта мысль Исаака Сирина может служить для нас ориентиром, каким должен быть наш настрой, когда мы подходим к аналою с лежащими на нем крестом и Евангелием.
Беседовала Виктория Кашекова