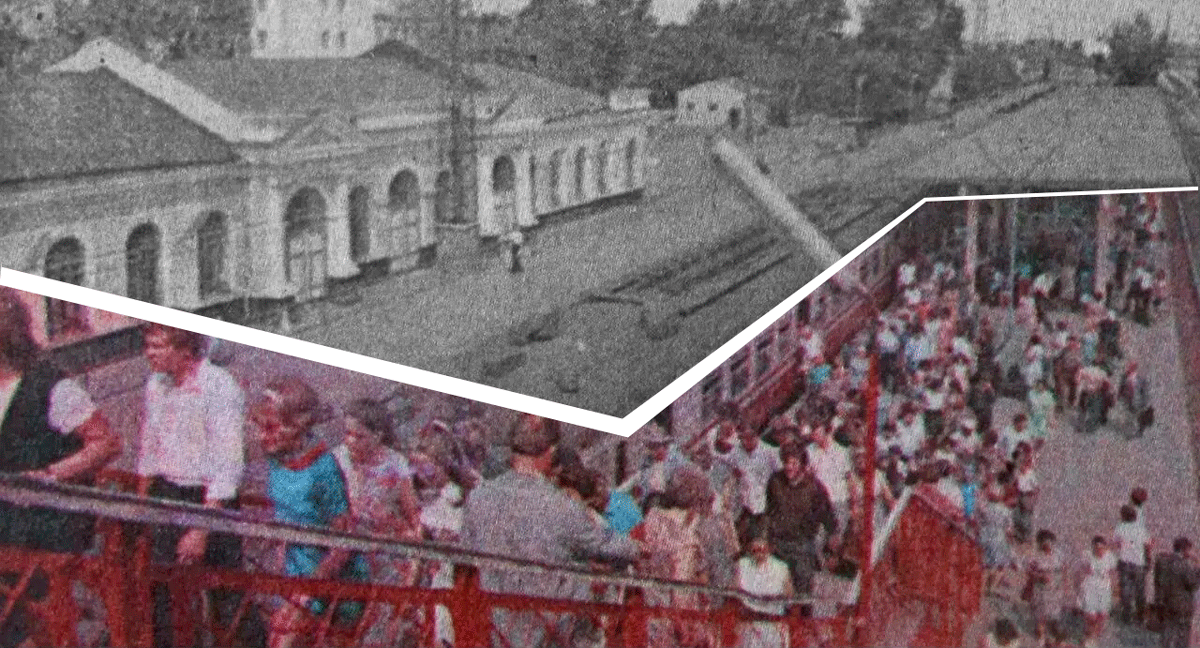За пьесу «Человек из Подольска» он получил «Золотую маску», спектакли по его произведениям ставят в десятках театров России и зарубежья. Дмитрий Данилов — писатель, поэт, драматург. А еще — выпускник Высших богословских курсов при Московской духовной академии. Каких слов старца Зосимы из романа Достоевского он не может принять? Зачем он несколько месяцев подряд выезжал из Москвы в город, как будто бы вовсе лишенный красоты? И что он думает о попытках навязать человеку вину за мерзости, совершенные другими?

Дмитрий ДАНИЛОВ
«Это были два года ада. Но Бог меня спас»
Вы не раз подчеркивали, что писательство у вас никак не связано с религиозными убеждениями. В ваших текстах, действительно, нет дидактики и нажима. При этом многие читатели и критики считают их христианскими по духу. Как бы вы это прокомментировали?
Я считаю, что автору не стоит транслировать свои идеи в художественных текстах. Как преподаватель литературных курсов всегда говорю своим студентам: «Если у вас очень много идей скопилось в голове, то пишите философский трактат, а не художественное произведение». А в художественное произведение не надо тащить свои убеждения, свои какие-то великие мысли или религиозные взгляды. Ну, а читатель, понятно, волен считывать свои смыслы и идеи. Это такой нормальный процесс писательско-читательского сотворчества.
А как вы пришли к вере? Это как-то связано с семейным воспитанием?
Я был крещен в детстве, хотя не могу сказать, что вырос в верующей семье. Но мы с мамой как-то одновременно начали осваивать религиозное поле.
Мама работала в издательстве «Мир» корректором в испанской редакции. И ее коллега привезла ей Библию из заграницы, напечатанную в Брюссельском библейском обществе. Обычный наш синодальный перевод. Это был 1984 год, я был школьником, комсомольцем. Так вот, я стал читать эту Библию. Я уже тогда осознавал, что это главная книга человечества для нашей культуры, но не могу сказать, что сразу после прочтения понял: всё, в этой книге истина! Такого оглушительного впечатления она на меня не произвела. У меня все происходило тихо, незаметно и постепенно.
Мама как-то зашла в церковь Иоанна Воина рядом с ее работой около метро «Октябрьская», ей там понравилось, и она предложила сходить туда вместе. А я уже чувствовал, что в Бога верю, что Бог есть. Этому предшествовал удивительный момент в моей так называемой духовной биографии. Можно сказать, поворотный.

В раннем подростковом возрасте, когда я уже начал задумываться над некоторыми философскими вопросами, в том числе и над смыслом известного марксистского тезиса «бытие определяет сознание», мне попалась на глаза одна статья, описывающая довольно-таки бесчеловечный, как я теперь понимаю, эксперимент: человеку говорили, что сейчас к нему прикоснутся раскаленным железом, а на самом деле прикасались просто палочкой, карандашом. Но у человека на этом месте появлялся реальный ожог. Когда я об этом узнал, во мне произошел почти мировоззренческий переворот. Ведь согласно взгляду, противоположному марксизму, — идеализму, как раз сознание определяет бытие. Реальность ожога свидетельствовала, что идеалисты в этом правы. А значит, понял я, — Бог есть. Потому как должно быть какое-то высшее сознание, которое и определяет все, что мы здесь проживаем.
С этого момента я еще не стал полноценным верующим, но перестал быть неверующим. Вместе с мамой я побывал в том самом храме на «Октябрьской».
И вот с 1984 года и до сих пор я, собственно, так и хожу в эту церковь Иоанна Воина, и, что прекрасно и удивительно, она абсолютно не изменилась. Все как было тогда, так и осталось сейчас. Даже иконы на тех же местах. Она для меня такой символ некой неизменности в нашем бешено меняющемся мире.
Это трудно оформить словами, духовный опыт вообще не переводим впрямую, но в церкви я чувствовал присутствие Бога. Я там себя почувствовал своим. Притом что церковного круга общения у меня не было совсем.
Еще одной важной точкой на пути становления моей веры стала армия. Если честно, перед армией я испытывал огромный ужас. Перед дедовщиной, перед дисциплиной этой. Я тогда понял, что меня только Бог может спасти. И я просто Ему молился своими словами: «Господи, помоги мне как-то выжить и сохраниться в этом во всем». При этом я решил, что бегать от армии не буду, имитировать психоз или что там еще я не хотел — сама идея мне была как-то противна.
Тогда была война в Афганистане, и меня запросто могли отправить туда, но отправили в противоположном направлении, в ГДР, в Германию. Там были сносные вполне условия. Всю службу я проработал в разных штабах чертежником, рисовал карты. Все, в общем-то, сложилось нормально. Только здоровье там себе подорвал. Два года работы я провел, склоняясь над чертежным столом, и после этого нижняя часть позвоночника у меня имеет форму доллара. Ну и варикоз появился. Дедовщина, конечно, была, но не настолько пугающая, как я думал. В целом, обошлось без ужасов, которых так боялся. И у меня было ощущение, что меня Бог просто на руках через это пронес.
Хотя, конечно, это же сегодня, вспоминая задним числом, я говорю, что все было не так страшно, но вообще-то это были два года ада. Просто ада. Два года ты не можешь побыть один. Никогда. Все время с кем-то, и часто с людьми совсем чужими по духу. Так что Бог меня спас, это правда.
В достаточно зрелом возрасте вы принимаете решение поступить на Высшие богословские курсы при Московской духовной академии. Ваш взыскующий интеллект требовал дальнейших ответов на «проклятые вопросы»?
На каком-то этапе я просто почувствовал недостаток знания. Нужно же понимать, во что ты веришь. Но до этой учебы еще много чего было.
Вернувшись из армии в 1989 году, в разгар перестройки, я продолжал ходить в церковь. Но конец 80-х и начало 90-х — это было время взрыва интереса ко всему оккультному. Популярнейшие такие соблазны для моего поколения. И я тоже этим заинтересовался, параллельно христианству. Вспоминаю об этом без улыбки умиления. Хотя от Церкви я не отходил и не переставал быть христианином. Но тогда, в молодости, у меня было представление, что христианство — это вот хорошо, но это слишком просто для настоящего духовного искателя. Это что-то такое для стареньких бабушек. А подлинные высоты духа — они где-то в другом месте находятся. И я присоединился к группе йогической направленности.
Какое-то время я думал, что, занимаясь этими йогическими или псевдойогическими практиками, иду к тем самым высотам духа. Создатель той группы — наш современник российского производства — решил, что ему надо вести людей к свету. Потом, правда, сам признался, что уже не очень понимает, куда нас ведет. Я постепенно осознал, что мы занимаемся пустотой, каким-то перемалыванием пустоты. И я просто оттуда ушел. Потом пару лет я примыкал к группе, которая занималась практиками, описанными у Кастанеды. Сейчас уже фактически стало общим местом, что Кастанеда это все придумал, что он слепил собирательный образ своего дон Хуана из нескольких индейских учителей-практиков. И как-то мне уже вскорости хватило ума понять, что в этом нет источника Абсолюта. Все-таки это творение ума человеческого, и я не должен воспринимать это как обязательный для себя путь. Я с ними тоже перестал контактировать и какое-то время пребывал в состоянии некой растерянности. В церковь продолжал ходить, правда, редко.
И вот в какой-то момент, не связанный с особыми внешними событиями, я просто понял, что нужно естественным образом возвратиться к тому, с чего я начал. Я вспомнил, что есть такие вещи, как исихазмСвязанное с именем св. Григория Паламы мистическое движение в православном монашестве, которое учит «умному деланию» — священному безмолвию и непрестанной Иисусовой молитве. — Ред., и понял, что мне это очень близко.
«Отдать все и быть закатанным в асфальт»
Почему вас привлек именно исихазм, это же очень аскетичное монашеское движение, а вы ведь мирянин?
Мне стала очень близка мысль, что настоящее христианство возможно только в монашестве. Я не хочу это навязывать никому, возможно для кого-то это звучит как религиозный радикализм, но в моем личном понимании, оставаясь в обычной мирской жизни, человеку полностью как христианину вряд ли возможно состояться. Когда я читаю заповеди Нагорной проповеди, вижу, что они призывают к тому, что разрушает социальную жизнь, которой я живу. Их общий знаменатель: не конкурируй; тебя бьют — не отвечай, не сопротивляйся. Здесь, правда, я бы сделал оговорку, отвечая тем, кто считает, что христианство — это защитная религия слабых. Чтобы следовать заповедям Нагорной проповеди, для начала желательно просто стать психологически здоровым человеком с правильно выстроенными границами, с ощущением, что я могу дать отпор, я могу свои границы защищать, могу проявлять силу, умею это делать, но я решаю отказаться, потому что я — христианин.
Но тем не менее в миру очень сложно с этим жить. Вспомните: просящему тебя — дай. Нам же не сказано: дай, сколько можешь, или дай немножко, 10 процентов дай. А сказано просто: дай. У меня даже стихотворение одно так и называется «Просящему тебя дай», там есть строки:
Когда мы подаем человеку десять, пятьдесят или сто рублей
Мы совершаем не христианский поступок
Мы просто действуем как социально ответственные граждане
Более успешные помогаем менее успешным
А христианский поступок
Это отдать все и быть закатанным в асфальт.
Есть же еще такое понятие, как рассудительность. Апостол Петр пишет: «Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность» (2 Петр 1:5–8). И, следуя заповедям, мы же не можем сразу взлететь на уровень Христа. Нам даются векторы движения, и, отдавая от души, мы получаем благодать, действие которой наполняет наше «отдавание» радостью. И даже если эта радость постепенно иссякает, она восполняется в молитве. «Не оскудеет рука дающего» — тут же об этом.
Поймите меня правильно, я совершенно не говорю, что все должны немедленно все бросить, раздать, оставить все мирское. Но в Евангелии есть эпизод про богатого юношу, который спрашивает Христа о спасении. Христос сказал ему: Соблюдай заповеди. «Все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?» -— продолжает юноша. «Тогда, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим и следуй за Мною». Юноша отошел опечаленный, потому что у него было большое имение. Он оказался не готов отказаться от всего. Понятно, что речь идет не только о материальных вещах, а об отказе от земного вообще. И я себя ощущаю тем самым евангельским опечаленным юношей, которому ох как трудно отказаться от того, что имеешь, ради Бога. Вот юноше оказалось слабо. У меня большого имения нет. Есть маленькое имение. Но все равно, мне — слабó. Абсолютно слабó.
При этом я думаю, что, когда у человека есть настоящая любовь к Богу, его больше ничего не интересует. В одном патерике есть рассказ о монахине египетской, которая прославилась своими духовными подвигами. Она жила одна в какой-то хижине на берегу Нила. Однажды к ней пришел посетитель. И, глядя на Нил, он говорит монахине: «У вас рядом такая величественная река. Наверно, это красиво, когда она разливается». — «А я не знаю, я никогда и не видела ее. В общем, мне без разницы, Нил — не Нил».
То есть вот оно, если следовать смыслу притчи, нормальное состояние христианина. Ему интересен Бог и молитва, а Нил ему не интересен. А мне вот Нил интересен. Мне очень интересна жизнь. И люди интересны. Не могу сказать, что их люблю, но они мне интересны. Мне много чего вообще интересно. Я могу иногда два часа на автобусной остановке просидеть, наблюдая окружающую реальность. А это нечто противоположное состоянию настоящего духовного искателя. И мне это грустно. Но, мне кажется, это неплохо, когда человеку грустно.
Но как тогда вы представляете себе дальнейший путь?
Я живу с чувством своей недостаточности как христианин. Я просто понял, что моя судьба — оставаться неполноценным христианином, плохим христианином. Ведь и монастырь не гарантирует подлинной встречи с Христом. Ты можешь просто поменять один социум на другой. Только пенять на Господа тут не надо. Стараюсь жить, как заповедовал герой фильма «Остров». Помните сцену, когда монах, которого Мамонов играет, в гроб ложится умирать, и ученик его спрашивает: «Ну, все-таки как жить-то, что делать вообще?» И монах отвечает: «Да греха большого не сделай и хватит тебе». Вот я примерно на этом уровне. Не грешить — это для меня тоже невозможно. Но хоть крупно не грешить, хоть так. Поэтому амбиции мои умалились.
Но при этом у меня сохраняется ощущение того, что Бог — Он не просто есть, а у нас с Ним есть какие-то отношения. И самое удивительное, в какой-то момент я понял вдруг, что не просто у нас есть отношения, а что Бог мной интересуется. Вот это было для меня каким-то удивительным внутренним открытием: я прямо почувствовал, что в меня с таким участливым интересом всматриваются, как я там копошусь в этой жизни. Даже стихотворение об этом опыте написал, «Звартноц», опубликовано в «Новом мире».
Зачем тогда, по-вашему, Бог создал этот мир со всей его красотой, если, как христиане, мы не должны видеть Нил за окном, а лишь молиться непрестанно, пребывая наедине с Богом. Мир как Божие творение, он, по-вашему, зачем?
Для меня вот это — создание Богом прекрасного мира — тоже какая-то загадка. Если немного приземлить, снизить регистр, то я бы предположил, что Бог, понимая, что на «вертикаль» способны единицы, для всех остальных создал этот прекрасный (в каких-то своих частях) мир, чтобы мы как-то пытались через него что-то понять и к чему-то прийти.
Всепоглощающая любовь к Богу, о которой Вы так тоскуете, она же дается нам свыше. Мы же не можем сами в себе ее рождать.
Да, дается. Но есть такое мнение, что она дается в ответ на наши аскетические усилия. Ты лбом в стену бьешься, молишься до посинения, и в какой-то прекрасный день эта стена рушится, и ты получаешь любовь Божию.
Хотя, конечно, я должен честно сказать, что к нынешнему времени моя собственная аскетическая практика уже фактически упала до нуля. Это как-то связано с моей профессиональной деятельностью, с литературой, с земной суетой, в общем, но с хорошей, занимательной такой суетой, ну и со здоровьем тоже. Его нет, и часто ходить в церковь трудно. Жить-то еще можно, хотя, в общем, сложновато.

Но было время, когда я первые четыре дня Великого поста вообще ничего не ел. Я очень серьезно к этому относился. И я по себе знаю, насколько пост благотворен. У тебя голова прочищается. В таком состоянии молиться легче, ум не так блуждает, он легким делается, его легче контролировать, легче его направлять на то, что нужно. Я это все помню прекрасно. Поклонов раньше я делал очень много. Сейчас по здоровью не выходит. Это тоже практика. Непонятно, как она работает, но полезно получается. У нас же все связано — и дух, и тело.
Чтобы у людей не сложилось ложного мнения, что я прямо какой-то аскет, — нет, вообще, совершенно не аскет. Но я понимаю смысл и необходимость аскетической практики — это то, через что нам дается любовь Божия. Мы ее не имеем в себе, мы не можем взять и сказать, что мы с понедельника будем любить Бога, если у тебя этой любви нет естественным образом. А молиться мы можем. Поститься мы можем, чтобы в ответ Бог, видя наше желание, видя наше к Нему движение, дал нам любовь к Нему и спасение. «Бог и намерение целует». Гарантий никаких нет, но мы можем надеяться. Ну, а если человек просто верит и ничего не делает, это значит: он понимает, что Бог есть, но Богом не интересуется. Да, Бог есть, ну и есть. А я живу как-то отдельно.
Так что аскетика очень, очень нужна. И это круто. Это вообще как-то наполняет жизнь. Когда ты регулярно какие-то аскетические усилия прикладываешь, уходит совершенно депрессия. У тебя нет вот этой рассредоточенности, когда ты унылый такой, все вокруг уныло, все надоело, все скучно. Нет, ты живешь, и какая-то в тебе появляется натянутая струна — в хорошем смысле.
«Я очень боюсь смерти»
Вы упоминаете тему здоровья, вернее его отсутствия, и недавно у вас вышла книга пронзительных стихов: «Как умирают машинисты метро», почти полностью посвященная смерти и посмертию. Вы так близко подпускаете к себе эту тему? Причем герои ваших стихотворений, как правило, тревожно-растерянны и едва осознают свою смерть, как, впрочем, едва осознавали и свою жизнь. В «Египетском патерике» самое дорогое, памятное из земного человек уносит с собой в вечность. И там есть сильнейшая тоска по этой благословенной земле. Но нигде у вас нет «смерти как приобретения», по словам апостола Павла. Удается ли вам вместить в себя такое ощущение смерти?
Я очень боюсь смерти. И чувствую, что она очень близко. Даже если я до 100 лет доживу, это вообще не успеешь оглянуться. А я до 100 лет уж точно не доживу. Это совсем прямо рядом. Само исчезновение меня как земной личности, расставание с тем, что здесь, меня очень пугает.
Говоря объективно, я понимаю, что не заслужил ничего особо хорошего. Ну и еще очень пугает то, что это зона неизвестности. Нам вообще о загробной жизни очень мало что открыто. Нам сказано, что будет жизнь вечная, и праведники будут с Богом, наслаждаться общением с Ним, а грешники будут скрежетать зубами. Это очень такое все неопределенное. Когда человек не боится смерти и уверен в тамошней встрече, у меня часто возникают подозрения, что этот человек просто очень сильно себя убедил. Что там на самом деле будет?..
И помимо посмертной неопределенности, мне очень тяжело расставаться с земной жизнью. Даже если там будет что-то очень хорошее, там не будет, ну, не знаю, Курского вокзала, не будет 14-го автобуса, который идёт из Кожухово в Новокосино. Это то, что меня очень пугает. С годами чем дальше, тем больше.
Пейзаж многих ваших литературных произведений — бедные городские районы, полузаброшенные остановки, однообразие, серость. Однако вы смотрите на это сочувствующим, жалостливым и даже любящим взглядом: «жизнь жительствует». Там, среди этих окраинных людей, говоря словами из Вашего стихотворения, «там Господь». Не есть ли это поэтизация или идеализация «окраинного» человека? На этих задворках жизни живут Светом больше, чем где-либо?
Я бы тут провел грань между поэтизацией и идеализацией. Это разные вещи. Поэтизация какая-то присутствует, просто мне интересно постараться полюбить то, что обычно принято не любить, какие-то не очень приятные вещи, которые меня окружают. У меня даже был такой эксперимент, запечатленный в книге «Описание города»: смогу ли я полюбить город, казалось бы, абсолютно лишенный какой-либо внешней привлекательности.
Я выбрал себе один российский город и придумал такой проект: в течение года туда приезжать и проводить там пару дней. Просто его изучать: гулять, ездить на транспорте. Я посвятил этому весь 2011 год. Причем я поставил себе условие, что приезжать я должен каждый месяц. По придуманным мною же правилам, я не мог отправляться в следующую поездку, не написав о предыдущей.
А город этот, он хотя и древний, но из древностей там не осталось почти ничего, кроме одной церкви XVII века. А так — абсолютно промышленный город, и объективно — ну, ничего такого прямо прекрасного нет. Ни один турист туда по своей воле не заедет. Но за двенадцать месяцев я так этим городом проникся, что в декабре, в свой последний визит, когда таксист, чьими услугами я постоянно пользовался, по пути на вокзал спросил меня: «Ну что, через месяц опять приедете?» — я в ответ чуть не расплакался, понимая, что нет, больше я сюда не приеду. И до сих пор, как только я слышу упоминание об этом городе, а обычно его упоминают в связи с какими-то ужасами, городскими происшествиями, авариями, очень редко что-то хорошее о нем слышно, — у меня сразу особый трепет и нежность возникают. То есть действительно получилось его полюбить. Эксперимент удался.
Настолько удался, что в упомянутом стихотворении «Там Господь» звучит мысль, что Господь у вас именно в таких неприметных российских городах, среди простых людей, а «не посреди грохота / Сияния и побед, / Не среди великолепия / И могущества». По-вашему, взгляд русского человека устремлен более на страдание и Крест Христов, чем на Христа во славе? Откуда в нашей культуре эта завороженность Крестом?
Насчет завороженности Крестом — нашу страну ведь не отнесешь к странам с благополучной историей. Несмотря на сказанное раньше, в некоторых вопросах я склоняюсь как раз к марксистской точке зрения: здесь все-таки бытие определяет сознание. Вот это тяжелое, беспросветное для большинства людей бытие: тяжкий труд, войны, жестокость, насилие — и определило, что в религии наш народ видит, может быть, некоторое отражение своего страдания. Христос страдал. И именно такой, страдающий, Он ближе нашему народу, в отличие от протестантской традиции, где есть нотка такого вот благополучного Христа, как бы абсурдно такое определение ни звучало по отношению к Нему.
Да и мне самому действительно свойственно вглядывание в это наше убожество с какой-то щемящей нежностью. Все-таки творчество для меня процесс во многом интуитивный, а не рациональный, и вот этой своей иррациональной частью я склонен с каким-то даже добрым чувством относиться к сложной и тяжелой жизни. Похоже, это такой наш русский национальный код. Вспомните того же Лермонтова: «Но я люблю — за что, не знаю сам…» Или Тютчев: «Эти бедные селения, Эта скудная природа...»
Это чувство похоже на то, как нам может быть близок и симпатичен какой-то великий, выдающийся, но очень неблагополучно живущий человек. Тот же Достоевский, скажем. Он тяжеловато жил вообще-то. На эшафоте стоял и так далее. Но — он великий. И Россия при всей своей «несчастности» — она великая страна, с великой культурой, с великими достижениями, одна из крупнейших культур мировых.
При этом сам я все-таки хотел бы, чтобы Россия была страной благополучной, сытой, удобной, где люди бы жили хорошо. И я совершенно не идеализирую убогость и не считаю, что люди, живущие среди убогости, ближе к свету. Ни к какому свету они не ближе. Православное христианство — это религия сложная, требующая больших знаний и понимания, мне кажется. Ну, например, учение о Троице — трудно же понять, или что такое искупление, почему необходима была именно такая жертва. А бедному человеку, ему часто не до богословия. Ему и голову поднять невозможно. Его жизнь все время прижимает, ему выжить нужно, семью прокормить. А чтобы думать о Боге, нужно немножко расправить плечи, найти возможность вообще о чем-то задуматься. Вот так, отвлеченно уставившись в окно на зимний лес. У бедного человека если есть под боком зимний лес, то для него это просто источник дров, которые нужно мучительно добывать, а не источник высоких размышлений: вот, вроде мысль какая интересная в голову пришла... Нет, ему, бедному человеку, редко приходят в голову интересные мысли, потому что для этого нужно время и некая остановка бега. А он все время в колесе.

Естественно, каждому человеку воздастся по его возможностям, и старенькой деревенской бабушке, которая не могла получить богословское образование и читать творения святых отцов, — ей воздастся за ее простую веру. Но идеализировать ее веру и говорить, что она лучше веры образованного (не исключено, что и в области богословия), притом финансово благополучного человека, не надо. В последнее время я все больше склоняюсь к тому, что этот феномен внешнего благополучия вообще не имеет какого-то религиозного измерения. Благополучный, богатый житель Швейцарии с миллионным счетом в банке может быть ближе к Богу, чем наш несчастный Кузьмич с семечками. А Кузьмич с семечками может вообще Богом не интересоваться.
Почему все же принято думать, что из страдания человек чаще приходит к Богу, чем из благополучия?
Иногда приходит, а иногда не приходит. А часто приходит через благополучие. Я, когда учился на богословских курсах, встречал там довольно много преуспевающих людей, которые приходят к Богу оттого, что у них есть интеллект, есть знания, есть досуг, есть возможность поднять голову.
«Мне вот это “все за всех виноваты” вообще не близко»
В романе «Горизонтальное положение» многие критики и читатели находят очень утешающий христианский мотив принятия жизни как она есть — без бунта, злобы, надрыва и бессилия. Вздохнет герой «ох», а потом его сакраментальное, подбадривающее «ну ничего, ничего, нормально» — и продолжит свои жизненные странствия из родного Кожухова и обратно. Но достаточно ли этого, чтобы говорить о христианском подтексте романа? И если все же говорить, как отличить христианское смирение от покорности?
Я как-то сильно бы не связывал жизнепринятие со смирением. В принятии жизни как таковой я особой христианской ноты не чувствую. А христианское смирение для меня в том, чтобы принимать то, что не можешь изменить. Но вот если ты что-то плохое можешь изменить, но не меняешь, это как раз проблема. Определи свою зону ответственности, которую ты контролируешь, и заботься о ней. А то, что ты контролировать не можешь, просто оставь тому, кто за это отвечает.
А как же быть с идеей о вселенской связанности людей друг с другом — как о ней говорит старец Зосима в «Братьях Карамазовых» Достоевского: «все за всех виноваты»?
Мне вот это «все за всех виноваты» вообще не близко. Может быть, это моя личная особенность, но я не особо чувствую свое родство со всем миром. С некоторыми людьми чувствую, причем с малым количеством. А так, чтобы со всеми... Да, все мы в конечном итоге произошли из одного источника. Но это меня не сопровождает как реальное ощущение, как что-то свое, лично пережитое…
А в позиции, озвученной героем Достоевского, как это ни парадоксально, я вижу некую гордыню. Мне кажется, к людям нужно относиться, как это описано в Нагорной проповеди. С ними не надо конкурировать, потому как нам заповедовано людей любить. Я, кстати, думал про то, что имеется в виду под христианской любовью, и пришел к выводу, что не имеются в виду какие-то эмоции. Это не то, что ко всем с горящими глазами тянуться и обнимать миллионы. Просто не делать людям плохо. А если есть возможность, делать хорошо. И это для меня и есть любовь христианская. А не какие-то суперчувства и мысли.
А вот это «ты за все и всех виноват и со всеми связан». Да кто ты такой, чтобы за всех быть ответственным! Ты отвечай за свое, за то, что ты пишешь, делаешь, за жену свою отвечай. Это в равной степени грех — как не признавать свои реальные грехи, так и брать на себя грехи несуществующие. Я не призываю стать бесчувственным поленом. Нет конечно. Естественно и нормально сопереживать страдающим людям. Но не надо за их страдания вину и ответственность чувствовать, потому что, повторюсь, это просто форма гордыни. Не надо на все человечество замахиваться. За все человечество Бог отвечает, только Ему не перед кем отвечать.
В одном из интервью вы упомянули, что вам нравится ваша писательская известность. А с тщеславием в его христианском понимании как справляетесь? Не мучает вас эта страсть?
Страсть тщеславия мне в чрезвычайной степени свойственна. Признание и известность щекочет мой нерв тщеславия. Я с ним долго боролся, но пришел к полному поражению. Я просто признал, что да, мне, как писателю, нужна известность, и мне нравится быть в какой-то степени известным. Я не хочу самого себя и всех остальных обманывать.
Зачем? Доказать свою творческую значимость?
Знаете, не только. Я с самого начала, с первых своих текстов, знал, что я хорошо пишу. Но здесь есть еще один момент: помимо приятности самой известности, жизнь известного писателя — это же очень интересная жизнь. Ты знакомишься с огромным количеством неординарных людей, участвуешь в фестивалях, писательских встречах, поездках, театральные постановки ставятся по твоим пьесам. Я это очень ценю, потому что знаю по опыту, что такое жизнь малоизвестного писателя, и знаю, что такое поденщина, когда ты уныло работаешь на каких-то дебильных, ненавистных тебе работах просто ради заработка, потому что писательство вообще ни копейки тебе не приносит. О тебе никто не вспоминает, книжки твои никому не интересны. В свое время я очень много занимался корпоративной журналистикой, и иногда это было даже любопытно, но я все время вспоминал знаменитые строчки Гумилева «Дурно пахнут мертвые слова». А я и был тем самым производителем мертвых слов, и для меня это было мучительно. Поэтому известность имеет еще одно измерение: это очень интересная, яркая жизнь.
В книге «Пустые поезда» вы пишете о своей маме, которая оставалась верной своему профессиональному выбору вопреки советам близких и жизненным обстоятельствам. При этом вы отметили, что, с вашей точки зрения, такие люди богоугодны. Почему?
Я даже не могу сказать, что я в этом уверен. Но мне кажется, это какая-то очень важная часть души — быть верным тому, что ты любишь. И да, я верю, что Бог таких людей любит.
Мама растила меня одна. Всю жизнь много и тяжело работала, пахала днями и ночами на двух работах. Моя бабушка, мамина мама, очень не одобряла мамин профессиональный выбор. Уже упоминал, что мама работала корректором в испанской редакции. Для бабушки это была зона непонятности и отчуждения: какой-то испанский язык, редакция, какие-то там иностранцы. Бабушка, суровая, грубоватая угличская крестьянка, без сантиментов, с крестьянской практичностью толкала ее на другую стезю: считала, что нужно учиться на инженера, идти на завод, деньги зарабатывать. А мама, человек очень робкий, выстояла перед мощным семейным напором, преодолела сопротивление среды и, окончив курсы испанского языка, пошла работать в редакцию. Она была очень одарена художественно и музыкально, но никто, понятно, не развивал эти ее способности. А вот мечту с испанским она все же исполнила. И это отстаивание чего-то подлинного в себе я считаю богоугодным. Может быть, в этом и не надо искать религиозного смысла. Ну, это мое предположение. Может быть, все и не так. Но я уповаю на то, что Бог ее любит и что у нее все сложится хорошо в ее дальнейшей жизни.
«Я не борец за все хорошее и против всего плохого. Мне просто слабó»
В стихотворении «Скука», завершающем книгу стихов, вы описываете страшно несвободное человеческое существование — «смертельную скуку», опять-таки перенесенную в посмертие, но знакомую по сию сторону бытия: казенщина кругом, синие казенные халаты, человека гоняют туда-сюда по присутственным местам, дают какие-то непонятные поручения. И он ходит, ждет часами, что-то относит, и во всех его действиях нет никакого смысла. При всей внешней несвободе человеку возможно сохранять свободу христианскую?
Я не очень хорошо понимаю, что такое христианская свобода. Есть вот слова Евангелия, когда Спаситель сказал иудеям: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». А что в это время в головах иудеев? Мы никогда не были рабами! Но ведь понятно, что Христос здесь о другом: о рабстве греху. А истина освободит от греха. Вот такое понимание христианской свободы как свободы от греха.
Но при внешней несвободе человек вынужден иногда идти на компромисс со своей совестью. Это грех? Где для вас черта, когда ваше традиционное «нормально» станет «ненормальным»? Где бы Вы остановились, как христианин?
Ну идти на компромисс со своей совестью — это грех, да. И кого-то этот компромисс может и сожрать. Но если сложились бы какие-то особые обстоятельства, вынуждающие меня на компромисс, я бы пошел на него и мучился бы потом. Мне кажется, что мучиться — это самое естественное состояние человека и христианина. Мы и так мучаемся все время. Я вообще человек компромиссный, во мне нет героической составляющей. Я не борец за все хорошее и против всего плохого. Мне просто слабó. А предельной для меня была бы ситуация, когда требуют отрекаться от Христа. Вот буквально поклоняться идолам — вот это страшная вещь. Но в жизни есть другой уровень компромиссов, после которых мне было бы стыдно, плохо, но как-то с этим можно жить.
Вы говорите, что мучиться — это самое естественное состояние человека и христианина. А как же «всегда радуйтесь»?
Мне кажется, одно другому не мешает. И радоваться, и мучиться. Наш Спаситель и пребывал в Божественной радости, и принял непредставимые муки, в полной мере выпил эту страшную чашу до дна. Это такой путь.
В пьесе «Человек из Подольска» один из мотивов — принудительное облагораживание человека. Оказывается, даже вкус и любовь к жизни можно прививать насильно. Легко от абсурдизма или, точнее, гиперболизма пьесы перейти к реальности сегодняшнего мира, в котором упор на насилие оказывается куда более востребованным, чем надежда на Истину Христа. Однако нашлись и те, кто увидел в пьесе метафизическую подкладку иного толка: и Бог, мол, занимается воспитательной работой, насильно ставя человека в неблагоприятные жизненные обстоятельства и извне принуждая его учиться урокам любви... Так учатся ли любви насильно?
В пьесе полицейские действительно говорят неплохие вещи этому парню из Подольска: о внимании к жизни, интересе к родному городу. Но они делают это с применением насилия. Они человека взяли ни за что, держали его целую ночь, подвергая страшному психологическому давлению. Конечно, это абсолютно выдуманная фантастическая ситуация, но если представить себе на деле такое насильственное внедрение в голову человека правильных мыслей, то, конечно, получается полная дичь. Человека нельзя взять и что-то втирать ему целую ночь, даже если он в результате задумался бы о чем-то важном. Не надо. Сам захочет, найдет вас, придет и попросит, вот тогда и старайтесь, если можете и умеете. А если не захочет, то и не надо. Потому что иначе это будет достижение хорошей цели плохими способами, которые абсолютно обнуляют хороший результат. Мы же нарушим какой-то важный нравственный закон.

Допустим, Раскольников в романе Достоевского убил старушку и ее деньгами хотел спасти многих молодых и хороших людей. Так вот, пусть лучше эта «бессмысленная» старушка-процентщица живет, а хорошие молодые люди останутся без помощи. Поэтому что в противном случае нарушаются какие-то базовые нравственные принципы — и христианские, и общечеловеческие, — которые нарушать не следует. В том числе и во имя благих целей. И мне кажется, человечество к этому в целом пришло. В том числе и через опыт XX века. Через опыт большевистского или нацистского проекта, когда считалось, что ради торжества огромных масс надо просто несколько сословий или народов уничтожить. Но зато всем будет классно.
А Бог иногда действительно без согласия нашей воли ставит нас в какие-то жизненно трудные ситуации в надежде, что мы чему-то научимся. Но Он всеведущий. Он видит полную картину, зная, что и кому нужно. А мы знаем какие-то маленькие отрывочки, толком не представляя, что другому человеку действительно необходимо. Поэтому ко взрослым и свободным людям нельзя применять насилие, если они не нарушили закон. Жизнь человека неприкосновенна, личность неприкосновенна — это христианские принципы.
«Нам сказано выкопать огромный котлован детским совочком»
Есть ли для вас особое место в Евангелии, которое вы опытно, со всей определенностью и силой восприняли с чувством: да, это истина?
Я уже упоминал эпизод с богатым юношей. Я этот фрагмент очень прочувствовал. Ну и, конечно, потрясает эпизод с блудницей: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Для меня вообще очень важна тема неосуждения. Знаете, есть ведь элементарные вещи, связанные с волевым усилием. Просто не разрешать себе чего-то. Когда мне очень хочется осуждать человека, как правило, мне удается припомнить, как я делал то же самое, за что осуждаю его.
И еще к вопросу о таком явлении, как рукопожатность. Я очень отрицательно отношусь к делению людей на рукопожатных и нерукопожатных. С этим вот товарищем общаться нужно, а с этим нет. Мне такой подход глубоко отвратителен. Это значит, что мы гнушаемся какими-то людьми. Спаситель не гнушался никем. Он ел и пил с проститутками, с бродягами. Я думаю, что среди Его сотрапезников были такие негодяи, что нам и представить трудно. Вспомним Евангелие: те же мытари в иудейском обществе считались последними людьми, подлецами из подлецов. Их ненавидели все, считали предателями, собирающими налоги в пользу Рима, работающими за деньги на чужую, преступную, римскую власть, да еще и вороватыми. Фарисеи говорили Христу: как же Ты можешь с ними есть и пить? И получали ответ: а Вы что, сами без греха? Поэтому моя позиция — общаться можно со всеми. Надо иметь свою точку зрения, можно быть с кем-то несогласным, взгляды человека могут быть отвратительны. Но я в себе знаю столько червоточин, что мама не горюй. И мне это как-то помогает задумываться: ну, кто ты такой, чтобы осуждать? Осуждать может кто-то совершенный. Вот Бог может. Он — совершенный Абсолют. А мы нет.
В русле этой мысли нередкая сегодня поляризация христиан по оси «свои-чужие» в связи с политическими реалиями — о чем она говорит?
Предположу: о том, что людям больше интересна политика, чем вера. Если бы им больше была важна вера, они бы со своими единоверцами не разделялись.
Иногда мы не умеем разграничивать разные сферы, принять тот факт, что человек противоположных тебе политических взглядов может быть настоящим христианином. Настоящий христианин — это вполне определенная вещь. Это член Церкви, тот, кто принял крещение и состоит в общении с Церковью, причащается регулярно, исповедуется. То есть участвует в таинствах. И при этом он верует православно, не впадает в ересь. Но нигде, ни в какой книге правил, не написано, что политическая позиция человека определяет его принадлежность к христианству. Сама по себе полемика по острым современным вопросам — это неплохо. Можно, допустим, полемизировать об отношении христианства к войне. Это очень интересная тема, кстати. Если бы нам удалось полемизировать взвешенно, трезво, с уважением к мнению сторон, а не объявляя друг друга врагами и отступниками от веры.
Я считаю, пока ты не достигнешь состояния холодной головы, просто не надо ничего делать: ни писать, ни говорить ничего не надо. А сейчас холодных голов очень мало. Все в каком-то воспламенении находятся, все с горящими глазами орут друг другу в лицо свои мнения. Если хочется орать, лучше пойти в какой-нибудь заснеженный лес и поорать среди деревьев, а к людям возвращаться уже без воплей.
Вы справляетесь с этой задачей?
Я очень стараюсь. И слабо надеюсь, что у меня все-таки получается. Стараюсь не расчеловечивать никого, не считать никого пропащими, не орать им в лицо свою в кавычках «истину». Мой случай — это когда достоинство есть продолжение недостатка. Мой флегматичный темперамент и равнодушие к большей части того, что волнует многих людей, обеспечивает мне некоторую относительную «мирность». Я эмоциональный человек, но в каком-то другом регистре. Мне трудно злиться на людей. Иногда надо бы, а не получается. Это не какая-то моя доброта. Я человек не добрый. Просто не злой. У меня не очень часто возникает желание людям помогать, что-то для них делать. Никогда не представлял себя ни в какой помогающей деятельности. У меня нет этого, мне не дал Господь. Но для меня христианство не про то, чтобы быть хорошим верующим человеком или хорошим работником, и не про то, чтобы быть главой крепкой семьи или быть патриотом своей Родины, и опять же не про то, чтобы быть активным гражданином. Всё перечисленное прекрасно и нужно, я всецело за, я сам и глава вполне крепкой семьи, и патриот Родины, но христианство не про это.
А про что?
Для меня цель христианства — быть святым, вот буквально это. Не хорошим верующим человеком, а святым. Я понимаю, что для меня это абсолютно недостижимая вещь. Но призваны мы к этому. И это надо просто хотя бы помнить. В этом смысле я за гораздо более строгий подход. В Писании сказано, что Господь есть Бог ревнитель. Он от каждого из нас требует, чтобы мы Ему отдали всего себя.
Знаете, это похоже на то, что есть сообщество альпинистов. Из них одна сотая процента поднялись на Эверест. А остальные забираются на какие-то небольшие горки в каких-то курортных местах. Они тоже себя считают альпинистами, но они при этом понимают, что настоящие крутые альпинисты поднимаются на 8000 метров. А они не могут. Нельзя считать, что, если я поднялся на пригорок или на маленькую горку, то я такой же альпинист, как и они. Да и вообще, зачем лазить на Эверест, когда есть такая хорошая горка, с нее хороший вид открывается. Но христианство не про то, чтобы технично забираться на небольшие горки и наслаждаться там красивыми видами. Понятно, что с Эвереста никакого хорошего вида не открывается, там только помереть можно. По-моему, в беседах Мотовилова с преподобным Серафимом Саровским упоминается момент, когда преподобного спросили, почему сейчас нет святых. Потому, что не хотят, был ответ. Святым стать не так уж и сложно. Это в силах человека. Но не хотят. И в этом для меня трагичность христианства.
Ведь христианство призывает нас к непостижимому и, казалось бы, невыполнимому — к обóжению. Это же дерзновенность какая. Это очень мощная и интеллектуально красивая религия. Нам сказано сделать, казалось бы, невозможное — выкопать огромный котлован детским совочком. Надо только ковырять и ковырять в земле этим детским совочком, пускай и безнадежно. И тогда навстречу предельному желанию, усилию и верности человека приходит Бог и происходит чудо — Бог соединяется с человеком. Жизнь святых тому свидетельство. Но наша немощь в том, что мы этого всерьез и по-настоящему не хотим. Мы предпочитаем сидеть на пригорке и делать хорошие дела.
Но Эверест не отменяется. Все равно самое крутое — это Эверест.
Беседовала Инна Волошина