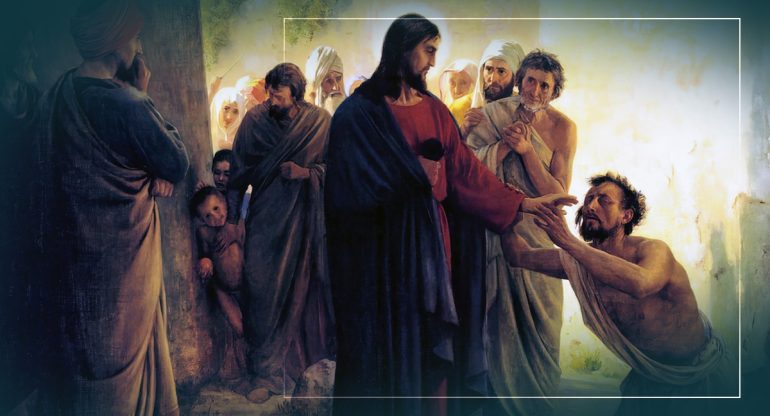В центре одного древнего восточного города есть маленькая, застроенная со всех сторон площадь. Взгляд впервые попавшего сюда человека сразу окунается в темный проем открытой внутрь тяжелой двустворчатой двери. Тот, кто шагнет со света в ее темноту, не вернется назад: он уже никогда не будет таким, как прежде.Войдя, можно так и остаться стоять, прижав руки к груди; а можно, сдерживая бешеную колотушку сердца, двинуться направо. В одной из алтарных ниш увидим за стеклом обломок камня, на который резвящиеся идиоты когда-то посадили Человека, чтобы воздать Ему издевательские почести: увенчать терновым венцом и набросить на плечи кусок материи кровавого цвета…Над этой невысокой и сильно изъеденной временем полуколонной положена, как столешница, толстая мраморная плита престола с надписью по торцу. Говорят, если приложить к ней ухо, услышишь то, что происходило на этом самом месте две тысячи лет назад. Я так и сделал: лег ухом на ледяной белый мрамор и закрыл глаза… А когда открыл, прямо перед собой увидел глаза ребенка, смотрящие куда-то мимо меня. Так мы и лежали, каждый на своем ухе, почти не видя друг друга и прислушиваясь к тому, что происходило в толще времени, в толще этого камня, и вообще всех камней и скал этого города с громким, всем известным именем.Не хочу обидеть наших двоюродных родственников католиков, но ничего нет в этом городе «католического» — сентиментального, изящного, претенциозного, способного дать пищу для размышлений эстету или моралисту. Из колючего камня сложенный холм со страшным именем стал точкой, где исполнились все предсказания и повернулась ось истории. Тело холма треснуло от вершины до самого основания — и эту трещину можно видеть и осязать сегодня, недоверчивый Фома даже может вложить в нее руку… Но самого холма не увидать: он укрыт, как в гигантском ларце, внутри постройки, объединившей десяток церквей (во всех смыслах этого слова — и религиозных организаций, и богослужебных сооружений). Каждый приходит сюда со знаками своей веры, такими различными, но с одной кричащей дырой в сердце и с одним Именем, которое под сводами Храма страшно произнести вслух…И то, что было до последней запятой известной, тысячи раз воспроизведенной в воображении историей, здесь приобретает выпуклость и зримость почти невыносимую. Прикасаясь к месту действия, обжигаешь не только ладони, но и душу — до кровавых волдырей. А главное — ничего не прошло и не притупилось, всё как тогда: и толпа, жаждущая знамений, и религиозная нетерпимость, и древние пророчества, въевшиеся в камень. Царственный город по-прежнему ждет своего Царя — и ожидание все так же чревато смертью.
В теснине крытой торговой улочки, по которой Его вели убивать, даже сегодня становится не по себе европейцу, одетому в броню полицейской безопасности, с загранпаспортом и обратным билетом в кармане… Низкие, покрытые вековой грязью своды давят на плечи. В глаза требовательно и неотступно заглядывают горячими восточными глазами жадные и нетерпеливые продавцы разной туристической дряни… Нетрудно представить, как чувствовал себя в этой недоброй толчее полуголый смертник, приговоренный к ужасной казни и тем самым поставленный вне любых проявлений жалости и милосердия! Среди смуглых лиц торгашей и карманников мелькает искаженное и почерневшее от времени лицо Агасфера — именно здесь две тысячи лет назад у него вырвались слова, обрекшие его на вечные скитания: «Иди на смерть!» Они все еще летают под перекрытием, ищут путь к небу — и не находят.
Хочется поскорее выбраться наружу, чтобы отдышаться и с высоты увидеть ползущую наверх дорогу и весь город — азиатский, бескомпромиссный, покрытый могилами и минаретами, начиненный болью и племенными и религиозными претензиями и предрассудками. Опаленный солнцем, многократно разрушенный и отстроенный заново, для каждого он становится концом пути — и началом нового, на котором уже не избавиться от памяти о нем.
А потом вернуться назад, в Храм, и в этот раз с порога увидеть розоватую каменную плиту, на которую было положено Его тело… И согнуть колени, и дотронуться, и убедиться, что она до сих пор вся мокрая от слез! И если станет на то Божьей милости, добавить свои к тем, что были пролиты на этом месте за двадцать веков… У этого камня — вечная Страстная Пятница, вечные сумерки потери, в которых светит лишь Пасха Христова: до нее — всего несколько шагов на восток, к Кувуклии, где сидит на отваленном камне Ангел, вестник Воскресения.
С этой вестью, словно с Благодатным Огнем в фонаре грудной клетки, я вернусь в Россию… Отныне при чтении Евангелия перед моим мысленным взором будут оживать не детские глянцевые картинки, а треснувшее скальное тело Голгофы, ужасные каменные оковы для ног приговоренных к смерти и узкая кишащая людьми улица, политая потом и кровью Сына Божия… Я увижу черные свечки кипарисов и высокие небеса, исчерченные следами ангельских крыл. И с новым чувством причастности стану повторять про себя рожденные здесь в начале времен слова:
Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя! (Пс 136:5)