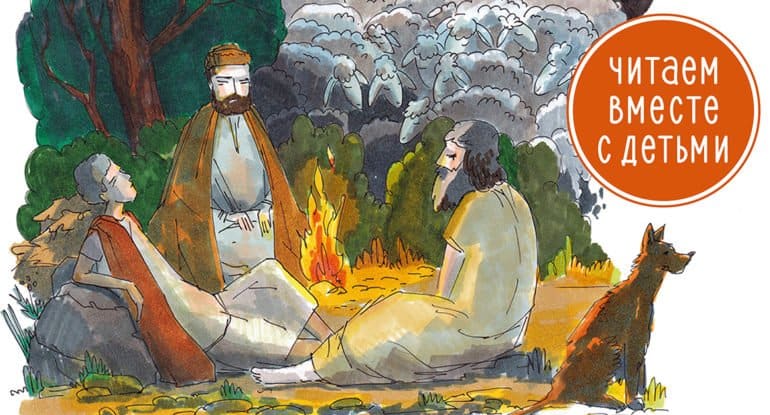Справедливо ли говорить о непримиримости религиозного и научного взглядов на мир? Что теряют те, кто считает, что наука может объяснить в человеке абсолютно все? И что теряют христиане, уверенные в несостоятельности поврежденного грехом человеческого разума? Об этом наш разговор с доктором философских наук, заведующим кафедрой философии религии и религиозных аспектов культуры богословского факультета ПСТГУ, заместителем председателя Экспертного совета ВАК по теологии при Министерстве образования и науки, членом Межсоборного присутствия Константином Антоновым.
Поводом для разговора стало открытие на богословском факультете Православного Свято-Тихоновского университета новой двухлетней магистерской программы по религиоведению. Студенты здесь совмещают занятия религиоведением с углубленным изучением православного богословия, постоянной практикой церковной жизни. Выпускники после обучения могут дальше идти в аспирантуру, работать в различных церковных структурах, на госслужбе или в СМИ в качестве аналитиков религиозной жизни.
Разум испортился — но все еще разум!

— Константин Михайлович, зачем вообще в конфессиональном православном вузе обучают религиоведению — светской научной дисциплине, которая декларирует нейтральный и объективный подход к религии, а часто просто ассоциируется с атеистическим подходом к изучению религии? Как одно сочетается с другим?
— Ответ на вопрос, если позволите, начну немного издалека. Мне представляется, что и в нашем обществе, и в Русской Православной Церкви существует пусть не совсем пока осознаваемая, но острая потребность в объективном, точном и научном знании, в некоторой реабилитации классической научной рациональности. Именно эта традиция в сегодняшних условиях может выступить как противоядие очень распространившемуся мышлению, которое соответствует некоторым примитивным психологическим инстинктам и желаниям и дает очень далекую от реальности картину мира.
— А почему с этим отдалением от реальности нельзя попробовать бороться углублением веры? Большей верой, а не научным знанием? Почему мы в данном случае говорим именно о классической научной рациональности?
— Они во многом между собой связаны. Потребность в вере и потребность в знании у человека друг друга дополняют. Ни без одной из них нельзя обойтись. Например, у святых отцов во многом именно важность знания, стремления к нему имелись в виду под понятием «трезвения». И оно же, как мне кажется, у Канта названо взрослостью.
— Но разве христианин может считать себя взрослым человеком в духовном смысле? В Евангелии сказано, что, не уподобившись детям, не войти в Царство Небесное.
— Даже под детством можно иметь в виду разное. В евангельском контексте это такие качества, как искренность, чистосердечие, доверие и открытость к миру и т. д. Но, с другой стороны, детство может быть связано и с неадекватностью в мышлении, с преобладанием воображения над рефлексией и так далее. И в этом смысле, мне кажется, следует различать правильное детство и плохую инфантильность. Ведь в Новом Завете также сказано: братия, не будьте дети умом! (1 Кор 14:20), Христос призывал быть мудрыми как змеи (Мф 10:16). В данном случае речь может идти о христианской мудрости.

— А что, по-Вашему, объединяет христианскую мудрость с традицией объективного, научно-рационального знания?
— Один и тот же принцип — принцип трезвого отношения к миру, как к внешнему, так и к внутреннему, духовному. Ведь что касается веры, то ты должен верить не в то, что тебе хочется, а в то, что дают тебе Откровение и Церковь. Раз приняв, что Откровение в этом, что спасение в этом, ты все это принимаешь как некую объективность. Но так же и в вопросах знания. Ты отбрасываешь то, что хочешь видеть в мире, и стремишься к тому, чтобы увидеть реальность. Хотя она может оказаться для тебя лично неприятной и неприемлемой. Но она — реальность. Если мы утверждаем идею Промысла, то, что тебе сейчас дает Бог, — это настоящее, нравится это тебе или нет.
— Вы принимаете рациональную научную традицию условно или безусловно? Что, если какие-нибудь научные выводы приходят к столкновением с истинной верой?
— Строго говоря, когда речь идет о настоящей вере и настоящей науке, то этого быть не должно.

— Но зачем тогда вообще Откровение, если и путем науки можно дойти до истин веры? И разве история новоевропейской науки и философии не насыщена самыми разными конфликтами с религиозной традицией? Научная рациональность опирается на естественный свет разума, но в христианской традиции разум человека понимается как испорченный, падший.
— Это сложный вопрос, и решается он, на мой взгляд, неоднозначно. Да, можно привести многочисленные высказывания из христианской традиции, в которых разум рассматривается как падший, распавшийся дающий иллюзорную картину реальности и так далее. И эти идеи нельзя сбрасывать со счета и от них отказываться. Но можно найти и другие утверждения, которые говорят о необходимости участия разума в богопознании. Ведь, независимо от нашей общефилософской оценки возможностей разума, есть ситуации, в которых мы не можем без разума обойтись.
— Это безусловно. Но, мне кажется, необходима и принципиальная постановка вопроса. И ее надо произвести и отрефлексировать.
— Конечно. Но, когда мы это уже сделали, ее решение становится в каком-то смысле неважным в ряде частных ситуаций, с которыми мы имеем дело. Скажем, независимо от того, как мы решили общий вопрос об испорченности или самодостаточности разума в познании, например, истории, у нас нет других вариантов, кроме как на него полагаться. То же самое в познании природы, общества, культуры.
— Почему? Мне кажется, что предпосылка испорченности или самодостаточности разума будет очень сильно влиять на общественную теорию, на то, что ею постулируется и конструируется.
— На общую социальную теорию или социальную философию это влиять будет, да. Но на конкретное социологическое исследование, когда нам надо понять, например, сколько священников нужно в Православной Церкви или какие факторы способствуют популярности новых религиозных движений, это влиять не будет. И здесь есть еще один важный момент. Даже тот, кто считает разум падшим, испорченным, должен согласиться с тем, что у разума есть все-таки некоторый, может быть, и недостаточный, набор инструментов, с помощью которых он может частично отслеживать и компенсировать свои недостатки. Он может этими инструментами выяснить и обнаружить собственную ограниченность. Если он взрослый, если он претендует на взрослость, он должен уметь это делать. Потому что взрослость, которая отказывается видеть собственную ограниченность, — это не взрослость, а подростковость.
Возвращаясь к началу нашей беседы о недостаточной востребованности научно-рационального знания в Церкви, я эту недостаточность вижу сегодня практически везде, на самых разных уровнях — от самых высоких до самых низких. Мы почти всегда предпочитаем руководствоваться собственным «здравым смыслом», практическим опытом и редко обращаемся к результатам научных исследований, которым, как правило, не доверяем. И это мне кажется очень большой проблемой, которая нас помещает в какую-то ирреальность, созданную игрой собственного воображения.
Кто создаст «богословие после ГУЛАГа»?
— Давайте, может быть, более конкретно. Какие именно специализации и направления нужны Церкви в данный исторический момент и что мешает им занять подобающее положение?
— Понятно, что прежде всего Церкви нужно богословие. С помощью богословия мы выясняем в конечном итоге, в чем же объективно состоит вера, которую мы принимаем. Оно нужно образованным мирянам, нужно священноначалию и нужно священникам. Богословие нуждается в проповеди, объяснении среди верующих, по крайней мере в рамках катехизации. Стремление к ясной и твердой вере требует существования ясного и отчетливого богословия.
Безусловно, нельзя сказать, что у нас сегодня не создается институций, которые должны способствовать развитию богословия. Например, та же Общецерковная аспирантура и докторантура, где богословие как специальность занимает одно из главных мест. Но степень развития и богословия, и благоприятных для него условий мне представляется недостаточной. Этому, конечно, есть и объективные причины. Трудно ожидать, что всего через 25 лет после падения советской власти мы получим взлет великой богословской мысли. Но нынешняя потребность в ней гораздо больше того, что сейчас может предложить Русская Православная Церковь. Нам надо и изучать собственную традицию, и отвечать на вызовы современности, и с инославными христианами вести дискуссию. Но серьезных, значимых богословских работ, которые хотя бы внутри Церкви прозвучали, очень мало. Если они вообще есть. У нас точно нет богословия новомучеников, богословия после ГУЛАГа, богословия после советской власти.
— Богословие после ГУЛАГа? Тут есть риск очевидного политического подтекста и выплеска партийных пристрастий… Может быть, и хорошо, что такого богословия пока нет? Можно впасть в так называемое политическое православие.
— Именно поэтому за этим богословием должна стоять конкретная исследовательская научная база, которая не даст делать скоропалительных политических заявлений и свести опыт церковной жизни в условиях советской власти только к его политической оценке.

— Сводится ли церковное знание к богословию?
— Нет, не сводится. Церковное знание — это все знание, которое Церковь вырабатывает для своих нужд. Кроме богословия, это еще, например, и философская или философско-религиозная мысль, которая имеет собственные задачи.
— Но ведь Церковь не вырабатывает собственно философскую мысль, это просто не ее задача.
— Ее вырабатывают церковные люди. Они мыслят, и мыслить они могут не только по-богословски. Они могут мыслить философски.
— Будет ли это тогда церковным знанием?
— Да, поскольку они ставят это знание на службу Церкви и помогают церковным людям что-то понять. Следующий важный пункт — это, конечно, религиоведение как некоторая комплексная наука о религиозных явлениях, потому что религиозный мир современного человека часто очень эклектичен и это требует специальной заботы Церкви. А также множество других дисциплин — научных и общественных, которые так или иначе в своих исследованиях затрагивают связанные с Церковью и верой реальности. Это социологические, психологические, какие угодно другие исследования.
— То есть ученый христианин может эти свои занятия поставить, не отступая от научной честности, на службу Церкви?
— Да. Это очень существенный момент, потому что, по моим наблюдениям, это не всегда понимается церковным сообществом. И, к большому сожалению, сами ученые — члены Церкви не всегда уверены в том, что они могут послужить Церкви своим знанием.
— Почему?
— Тут могут быть разные причины. Я могу привести такой пример. Стою я как-то на службе в храме. Во время проповеди батюшка, очень хороший священник, поздравляет одного из своих постоянных прихожан с днем ангела. И говорит, что этот очень умный человек, профессор, служит у нас в храме, помогает в его уборке, работах на дворе и т. д. Но все, что он перечисляет, не имеет никакого отношения к уму и знаниям этого человека. Признаться, мне было очень горько. Неужели на этом хорошем приходе нечего делать ученому человеку именно в качестве ученого?

— А может быть, профессору это просто не интересно? Может, для него такой вид работ — способ смирения?
— Это тоже странно, что, смиряясь, человек отказывается от того дара, который дан ему Богом. Это мне кажется большой проблемой — недоверие к интеллектуалам-профессионалам в Церкви. И, к сожалению, ей соответствуют и некоторая внутренняя неуверенность, сомнения этих людей в своей нужности. Или противоположный комплекс, когда с биением себя в грудь утверждается свой интеллектуализм как нечто исключительное и абсолютное.
Возьмем снова религиоведение. Я про него говорю потому, что для меня это в каком-то смысле больная тема, поскольку я пытаюсь организовать его преподавание и развитие на богословском факультете нашего университета. Первый вопрос, который здесь возникает: чем оно отличается от других наук и зачем вообще оно нужно? Чем оно, в частности, отличается от богословия? Это довольно болезненный вопрос для самих религиоведов, которые вне ученого круга часто сталкиваются с превратным отношением к себе. «А-а-а, ты студент-религиовед? Ты что, в священники собрался?» А если ты преподаватель, то спрашивают часто: «Ты что, священников учишь?» Или, напротив, в церковной среде, особенно среди старшего поколения, можно встретить прямо противоположную реакцию: «А зачем оно тебе? Его же атеисты придумали».
С другой стороны, действительно, есть вопрос размежевания, который очень болезненно встал еще начиная с 1990-х годов, когда теологию ввели в университеты как одно из направлений учебной подготовки, и возникла проблема со стандартами и так далее. Когда я задумался над этим, то мне пришла в голову простая формула, которая, конечно, имеет ряд оговорок. Теология занимается церковной жизнью, церковной верой, как они должны быть, а религиоведение занимается религией, как она есть, со всеми ее достоинствами и недостатками. И богословие, строго говоря, интересуется верой той Церкви, на основе которой оно возникает, а религиоведение занимается религиозными представлениями в целом. И для него именно эта Церковь — лишь некоторый, хотя, возможно, и самый важный и значимый, но частный случай в длинном ряду других. Между ними на этой почве, конечно, возможны и даже должны быть определенные столкновения и взаимонепонимание. Но именно поэтому можно выстроить и такое взаимодействие, в котором они оказываются друг другу вполне полезными.
Православие и народное хозяйство
— А религиоведение как дисциплина принадлежит к классической, объективно-рациональной научной традиции или нет?
— Мне кажется, что да, принадлежит. Хотя оно сложилось только в середине XIX века, но во многом благодаря усилиям теологов. Среди первых религиоведов много теологов.
— Могли бы Вы привести примеры каких-то классических религиоведческих трудов, прочитав которые, можно получить адекватное представление, что такое религиоведение и чем оно занимается?
— Классика религиоведения — это довольно известные книги, например, «Многообразие религиозного опыта» Уильяма Джеймса или «Священное» Рудольфа Отто.
Сложнее с отечественными работами. Никакие советские исследования, даже добротно сделанные, привести невозможно в силу их сплошной идеологичности. С дореволюционными исследованиями будет некоторая проблема с их атрибуцией. Скажем, в духовных академиях много занимались историей религии, но называли это богословскими исследованиями. Например, классическая работа «Религии древнего мира в их отношении к христианству» владыки Хрисанфа (Ретивцева). У нее подзаголовок «Богословское исследование». Но, по сути дела, это первая систематическая история религии на русском языке.
Любопытный пример современной хорошей религиоведческой работы — это книга Ивана Забаева «О хозяйственной этике современного православия». Он взял гипотезу великого немецкого социолога Макса Вебера о влиянии религиозных идей на хозяйственную жизнь общества и посмотрел, какие представления современных православных людей определяют их отношение к труду и хозяйству. Эта книга вышла в Издательстве Свято-Тихоновского университета несколько лет назад.
— И какой в этом исследовании получен результат? Как православие влияет сегодня на хозяйственную деятельность?
— В книге выделены некоторые базовые категории. Это прежде всего послушание и смирение в том виде, в каком оно представлено, например, у святителя Феофана. Видимо, они до сих пор доминируют в современном сознании настоятелей монастырей, православных работодателей. То же самое имеет место в сознании трудников, которые в монастырях работают. Эти ценности и влияют на их отношение к труду, на их понимание значимости результата и так далее.
Еще один замечательный пример современной религиоведческой работы — недавно вышедшая книга Владимира Александровича Мартиновича «Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция. Материалы к изучению нетрадиционной религиозности». Он сам называет себя сектоведом, но на самом деле это очень высокого уровня теоретическое религиоведческое исследование динамики развития так называемых новых религиозных движений.
— Но какова в целом главная задача религиоведения? Зачем вообще его изучать?
— Религия — важная составляющая человеческой жизни. Может быть, самая важная. Цель религиоведения — изучать религиозную жизнь во всем многообразии ее проявлений. Это проявления религии в культуре, скажем, в художественных произведениях, это жизнь религиозных организаций и т. д.
— Но этим занимается и социология религии.
— Да, конечно. Но социология религии, как и психология религии, существует в двояком или двойном статусе. Они существуют и как части религиоведения, и как части психологии или социологии. Однако зачастую социологи и психологи не очень стремятся заниматься религией. Например, в 2014–2016 гг. мы делали проект по изучению современной западной психологии религии, поддержанный Российским научным фондом. Одной из наших главных проблем было найти профессиональных психологов, занимающихся религией. Таких оказалось очень мало.
А религиовед — это человек, который изучил разные концепции и методы исследования религиозной жизни, который хорошо знает историю религии и ее современное состояние. Его интересует, например, как верующий воспринимает церковную проповедь, что происходит в его сознании, когда он слышит слова священника, как он их усваивает и трансформирует в своем сознании, как они потом сказываются в его поведении и т. д. Сегодня такой исследователь часто видит то, что на профессиональном языке называется patchwork — лоскутность сознания. Скажем, человек может ходить в церковь и при этом верить в астрологию — и не видеть в этом никакой проблемы.
Когда религиоведение занимается социологией религии, оно занимается проблемами взаимодействия религии с другими сферами социальной жизни, динамики и развития этого взаимодействия. Скажем, возьмем новые религиозные движения. Возможно ли, что свидетелями Иеговы станут 10–20 % населения России? Религиовед скажет, что нет, невозможно, потому что он знает максимальный процент распространения свидетелей Иеговы в других странах. Известно, что он никогда не выходил за рамки 1–1,5 % населения.
Или возьмем, например, такой центральный религиозный феномен, как святость. Она явлена, с одной стороны, в людях, а с другой — в священных предметах. И я бы сказал, что предметом изучения религиоведа, а не богослова, является человеческий момент жизни святого. То есть если для богослова святой являет истину и обоженную реальность, то для религиоведа святой — это человек, который реализует определенные возможности человеческого существования. Он имеет определенную психологию, вступает в определенные отношения с другими людьми, производит на этих людей какое-то впечатление и т. д. Это то, что можно назвать психологическими и социологическими аспектами святости. Прототипом такого исследования могут быть «Святые древней Руси» Георгия Федотова. Мне кажется, что это скорее религиоведческое, чем богословское исследование.
И если такое исследование сознает свои границы, не заходит в сферы чужих компетенций, то такая попытка может быть не только интересной сама по себе, но и полезной. Она может по-новому раскрыть жизнь святого человека для церковных людей, а также актуализировать и сделать ее интересной и значимой для людей нецерковных или малоцерковных.
Но это, конечно, только пример. Предмет изучения религиоведения можно представить в виде концентрических кругов, как это сделал когда-то Ф. Хайлер. Понятно, что сейчас мы говорим с точки зрения важности этих предметов для Церкви и ее жизни.
— А каковы эти круги?
— Если в центре религиозной жизни мы поставили святость, то следующим кругом можно считать иерархию. Что представляет собой современный священник? Каков распорядок его жизни, его ценности и идеалы? Как он сам понимает свое служение — не в идеале, который описывается в канонах и постановлениях Церкви и творениях св. отцов, а в реальности? Сколько священников нужно Церкви сегодня? Такое исследование проводится сейчас у нас на богословском факультете в лаборатории социологии религии, в нем участвуют и наши студенты. Знать это нужно и представителям иерархии и церковного управления, и самим священникам, особенно молодым, ищущим пути своего служения в современном мире, и представителям власти, которые выстраивают свои отношения с Церковью, и общественности — церковной и нецерковной.
Следующий круг — воцерковленные миряне. В современной социологии религии существует несколько способов подсчета «индекса воцерковленности» — и все они спорные. Тем не менее проводимые исследования показывают, что ценности, жизненные установки людей, относящихся к так называемому «ядру приходской общины», существенно отличаются от общераспространенных в нашем обществе: это касается отношения к детям и деторождению, любви к своей стране, политических предпочтений, причем в основе этих отличий лежит религиозная мотивация. Понимание тех изменений, которые происходят в сознании воцерковляющегося человека, несомненно, важно для пастырей и иерархов, и катехизаторов, и миссионеров, и публицистов, и политиков.

Православные по самоопределению составляют следующий круг. Это люди, составляющие большинство населения России, те, кто называют себя православным при опросе, но никак не участвуют или очень мало участвуют в реальной церковной жизни — жизни храма, прихода, таинствах, молитве, постах. Вопрос, который обсуждают исследователи: почему же они называют себя при этом «православными»? Что это — конформизм, политика, неспособность различить этническую и религиозную идентичность? Можно ли преодолеть эту ситуацию и какими путями? Почему наша Церковь в ней оказалась? Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужны не только социологические, но и исторические, и психологические исследования, понимание механизмов религиозной жизни, сопоставление их с тем, что происходит в других странах.
Следующий, еще более внешний для Церкви круг составляет как бы другую сторону того же сознания большинства: я говорю о «народной религиозности». Я уже упоминал о «лоскутности» сознания современного человека: тут намешано всего понемногу: и Бог, и ангелы, и переселение душ, и общение с Космосом, и теория заговора, и вера в колдовство и предсказания, гороскопы; у тех, кто пообразованнее, сюда может добавляться алхимия или каббала, буддизм, и какие-нибудь обрывки теософии, и «духовность». Изучать верования этой среды, из которой время от времени кристаллизуются какие-то новые религии, — само по себе чрезвычайно интересно, но это еще и очень важно прежде всего для дела церковной миссии: к каким людям мы обращаемся? Как они воспримут нашу проповедь? Какие религиозные «моды» сменяют здесь друг друга, какие товары, какие «новые религиозные смыслы» предлагаются и пользуются спросом на «религиозном рынке»? Отслеживая эти явления, религиоведы приносят огромную пользу и обществу, и Церкви.
Что же касается великих мировых религий, то они так или иначе живут собственной жизнью и представляют для Церкви сознание совсем внешнее. К этому кругу я бы отнес (из тех, что представлены на территории России) не только буддизм, иудаизм, ислам, но и католицизм, и различные протестантские церкви и деноминации. Все они имеют собственные богословские и/или философские традиции, но религиоведение предлагает объективированный, «внешний» взгляд на их историю, социологию и психологию их адептов. Этот внешний взгляд, конечно, по-своему ограничен, но в то же время он может увидеть нечто такое, что скрыто от взгляда внутреннего, как хороший психолог может увидеть в человеке что-то, что он сам в себе не замечает или не хочет замечать. Этими знаниями, которые почерпнуты из сравнения различных религий, изучения их взаимных влияний, общих закономерностей их развития и т. д., религиовед готов делиться со всеми, кому это важно и интересно. А это важно, например, для установления религиозного мира и спокойного, адекватного, основанного на знании друг о друге межрелигиозного диалога. Внутренняя жизнь и отношения различных религий будут более понятны чиновникам, которые пытаются регулировать эти отношения, публицистам, которые ведут друг с другом спор, выступая от их лица, а также тем представителям нашей Церкви, которые участвуют в этом диалоге на официальном уровне либо берут на себя тяжелую роль миссионеров в среде, как раньше выражались, «иноверцев».
Может быть, наиболее скользким является разговор о следующем круге — так называемых новых религиозных движениях, в отношении которых зачастую до сих пор употребляется у нас обидное для их представителей слово «секта».

— Почему самым скользким?
— Слишком много обидных коннотаций, особенно в соединении со словом «тоталитарный». Но религиозная жизнь, даже маргинальная, слишком сложна, чтобы схватить ее таким простым делением, как деление церковь/секта. НРД вырастают как из среды народной религиозности, так и из мировых религий. Задача религиоведов — не бороться с ними и не защищать их, а прослеживать процессы их становления и развития, пытаться понять психологию их адептов, общие закономерности, определяющие их численность. Непривычность практик и доктрин многих НРД ведет к тому, что одни начинают видеть в них светлый идеал подлинной религиозности, свободной от коррупции и бюрократии, а другие — манипуляции сознанием, зомбирование, экстремизм. Поэтому очень важная задача здесь — развеивание существующих вокруг них предрассудков.
Почему непредвзятое изучение НРД так важно для Церкви? Прежде всего, потому, что изучая их, мы, в значительной степени, изучаем самих себя. Распространение НРД — признак того, что в церковной ограде не все в порядке, что люди не находят в ней откликов на свои духовные запросы, ответа на свои поиски смысла. Если мы будем видеть в развитии НРД только происки злых сил, человеческих или демонических, — мы не увидим за этим собственные недостатки как людей Церкви, снимем с себя ответственность. По моему убеждению, эта ответственность состоит не в том, чтобы бороться с НРД, занимаясь «агитацией и пропагандой», привлекая к этому силы суда, полиции, правительства. Скорее нам нужно выяснить объективные закономерности жизни общества, культуры, религии, которые стоят за их распространением, понять, как эти закономерности можно использовать на благо Церкви. Если уж говорить здесь о борьбе, то лучшим средством такой борьбы будет улучшение качества гуманитарного образования, включая, конечно, религиоведение, внимательное отношение к прихожанам в храмах, создание крепких, живущих интересной жизнью приходских общин.
Такое адекватное знание об НРД — знание их истории, доктрины, практик, организации, закономерностей их развития — будет полезно и чиновникам, сотрудникам органов безопасности и правопорядка, и обществу, и пишущим о религии представителям СМИ. Конечно, в этом размытом и расплывчатом поле современной религиозной жизни случается всякое: есть там и подделки, и мошенничество, и даже прямое духовное или физическое насилие. Расследование таких фактов — дело следователя, а не ученого, но их особенности, конечно, представляют и научный интерес. В целом наша задача — сделать прозрачной саму эту картину религиозной жизни.
Наконец, самый широкий (но отнюдь не самый тонкий) круг — это целиком вся история религии, от ее начала, которое совпадает с началом человечества, до нашего времени. Здесь религиоведение обращается ко всем членам Церкви как к людям, живущим в пространстве культуры. Знание исканий «пути, истины и жизни», по которым прошло человечество в своей истории, так же необходимо современному человеку для его самоопределения, как знание истории литературы, изобразительного искусства, музыки, истории философии. Ведь путь искания Бога (даже ошибочный) — это непременно и путь понимания самого себя, своего места в мире.
В целом иметь религиоведческое образование — значит иметь возможность разобраться в этих вещах. Заниматься религиоведением как наукой — значит жить, постоянно соприкасаясь с ценностями, самыми возвышенными из всех, с которыми людям приходится иметь дело. Делать это в Церкви — значит служить Церкви своим талантом, со смирением исполняя это высокое, прекрасное и ответственное послушание .
Беседовал Юрий Пущаев
На заставке фрагмент фото Erkan Şibka