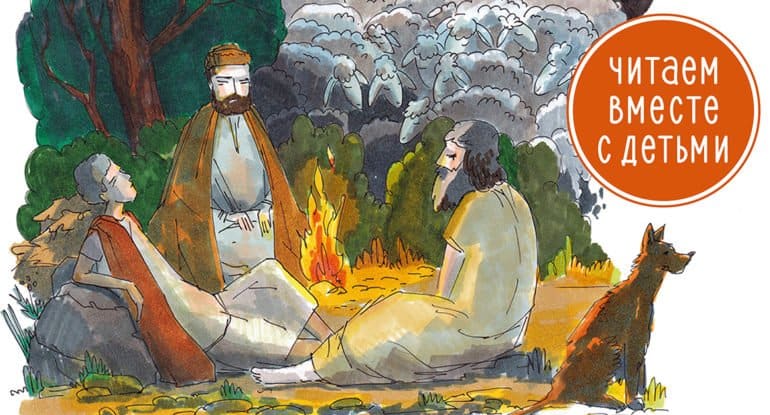На 10 самых больных вопросов об образовании в современном мире отвечают наши эксперты: руководители школ, учителя, вузовский преподаватель.
1. В чем причина кризиса образования в мире?
Михаил Поваляев, директор московской частной Филипповской школы:
Сейчас утрачено различение между «образованием» в широком смысле (включающем в себя всякое научение чему-нибудь) и образованием в собственном смысле (процессом, после которого человек может прочитать любую книгу и понять ее содержание). Якобы это произошло в результате взрывного роста объема если не знаний, то знаниеподобной информации. Для неквалифицированного наблюдателя знания и знаниеподобная информация неразличимы.
На поверхности «образование» как куча мест (и даже не мест), где молодежь учится, переживает расцвет, на него тратится много денег, ему уделяется много общественного внимания.
Александр Ковальджи, старший методист лицея «Вторая школа», г. Москва:
Причин, я думаю, много. Попробую обозначить некоторые из них.
Первая — превращение системы образования в конвейер, обезличивание ученика и учителя, внедрение «педагогических технологий», которые якобы могут заменить живого учителя или превратить учителя в ассистента при обучающей компьютерной программе. При этом поговаривают, что такому ассистенту даже не обязательно знать предмет, достаточно только поддерживать технологический процесс. То есть происходит отчуждение учителя и ученика, замена учителя роликами с уже записанными лекциями и компьютерной программой для выдачи упражнений и контроля усвоения материала. Ученик в этом случае — некая «болванка», подлежащая обработке по заданным алгоритмам. Подход очень соблазнительный с экономической точки зрения.
На мой взгляд, это недопустимая крайность, которая роботизирует ребенка, унижает его достоинство и не будет создавать естественную мотивацию к учению. Живой учитель способен адаптироваться к детям, способен организовать с ними и между ними диалог, а компьютерная программа на это не способна.
Конечно, компьютер и Интернет могут значительно помочь учителю быстро сохранять и находить любую информацию, делать урок более разнообразным и наглядным, пользоваться опытом коллег из любой точки мира.
Но чтобы детей увлечь процессом познания и научить правильно работать, особенно в младшей и средней школе, живой учитель необходим, причем такой, который понимает и любит детей, умеет с ними общаться.
Вторая причина — гипертрофированный эгалитаризм, болезненная попытка уравнивать права и возможности разных категорий учеников. Это очень соблазнительная популистская идея, которая позволяет политикам завоевывать голоса избирателей. Фактически большинство людей чисто эмоционально воспринимают понятие «справедливость», не понимая, что это такое в каждом конкретном случае, и становятся объектами манипулирования.
Например, идея о том, что школа должна сначала принимать детей из своего района, а потом из других районов; приводит это к тому, что родители, желающие отдать ребенка в хорошую школу, меняют квартиру поближе к школе или фиктивно «прописывают» его у знакомых.

Еще пример с равноправием всех желающих поступить в определенный вуз. Во Франции считается, что все, кто формально имеет право получить высшее образование данного профиля, имеют равные права на обучение, а дополнительные экзамены проводить не разрешается. Однако абитуриентов бывает в разы больше, чем максимальное число посадочных мест. Тогда поступают очень просто — устраивают жребий.
Третья причина — теория о том, что дети должны сами выбирать программу обучения (разъяснение — ниже, в ответе на вопрос 6).
И четвертое — бюрократизация образования. Всё бóльшую роль в руководстве образованием захватывают политики и менеджеры, у которых главная цель не развитие образования, а использование образования в политических или экономических целях.
2. Существует ли реальная альтернатива массовой школе?
Анна Елашкина, преподаватель философии Новосибирского государственного университета, директор по развитию проекта межвузовской магистратуры ГАУ НСО «Центр»:
Образование становится все более жесткой, конкурентной средой, в которой ребенок сразу включается в гонку за призовые места и участвует в ней вплоть до окончания вуза. Организационно этот подход подразумевает массовость, однотипность и жесткий отбор. Плюс такого подхода в том, что он дает результат «на больших числах». А минус — те, кто не вписываются в систему, не получают внутри системы способов движения: они просто не нужны.
Сегодняшняя альтернатива усредненному массовому обучению — индивидуальная работа с ребенком, семейное обучение. Минусы семейного обучения: это дорого, нужно время, деньги, квалифицированные педагоги. Плюсы: ребенок не участвует в конкуренции, разве что соревнуется сам с собой, может найти неожиданное дело по вкусу. Конкурентный жесткий подход дает прекрасных сотрудников корпораций (научные институты и госслужба — это тоже корпорация). Индивидуальный подход дает собственников своего дела, пусть и небольшого, сохраняет в ребенке предпринимательский интерес к жизни.
3. Какие сейчас в мировом образовании самые главные нерешенные вопросы?
Александр Ковальджи:
Противоречие между эффективностью дифференцированного образования и теориями социальной справедливости. Как ни странно, в западном мире идеи социальной уравниловки сейчас стали сильнее, чем они были в Советском Союзе.
Противоречие между выгодным для государства хорошим образованием трудоспособного населения и опасным для чиновников и правителей свободомыслием умных людей. Как писал Л. Н. Толстой, «сила правительства основана на невежестве народа, оно знает об этом, и потому будет всегда бороться против просвещения».
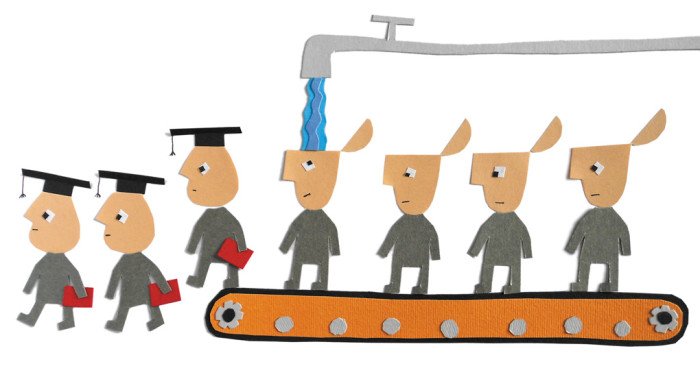
Техническая революция и глобализация всех процессов создают иллюзию, что людям не нужно думать, а нужно только знать и уметь то, что уже достигнуто. Творческие личности нужны в минимальных количествах для крупных корпораций, которые занимаются новыми технологиями, а основная масса населения — это винтики в огромном механизме.
Но великие ученые всегда были вершиной пирамиды. Условно говоря, чтобы появился 1 академик, нужно 50 членов-корреспондентов; чтобы появился 1 членкор, нужно 50 докторов наук; чтобы появился 1 доктор наук, нужно 50 кандидатов наук, а чтобы появился 1 кандидат наук, нужно выпустить 50 студентов. То есть, чтобы на выходе получить одного академика, необходимо обучить 6 миллионов студентов.
4. Все более узкая специализация — это хорошо или плохо?
Александр Ковальджи:
Все вузы, включая университеты, всё более специализируются в ущерб целостному знанию и мировоззрению. Мировая тенденция — знать всё о какой-нибудь мелочи, например, производстве шин для автомобиля или светодиодов, быть в курсе всех новостей о ней, от технологии производства до рынков сбыта. В технике это не так страшно, но, например, в медицине страшновато, когда есть специалист только по коже, только по сосудам, только по печени и так далее. При этом никто из них не видит человека в целом.
5. Возможно ли обучение без стресса?
Дмитрий Шноль, методист Центра педагогического мастерства, г. Москва:
Когда говорят, что образование должно быть комфортным, бестравматичным, от успеха к успеху — это перенос в наши реалии условно «западного» взгляда на жизнь: чем жизнь комфортней, тем «качественней». Смерть вообще исключена из этого взгляда, она считается странным и неестественным событием. Эта культурная и философская традиция опасна: человек падает, когда учится ходить, и набивает шишки, обжигается горячим чаем — но это позволяет ему понять, что нужно быть осторожным. Когда учитель возвращает тебе работу, и ты видишь, что в ней полно ошибок, — это тоже травматично, но это твой опыт, который позволяет тебе вырасти. Да, если все время больно, ходить не научишься, но если учиться ходить в комнате, обитой ватой, на асфальте можно расшибиться. Идея бестравматичного обучения — это реакция на те трудно переносимые травмы, которые были у нашего поколения. «Я сделал это плохо, значит, меня нельзя любить». Но базовые понятия при смене подхода остаются те же: отождествляются результат работы и сам человек. Идея постоянной успешности приводит к глубинному неврозу, дети же не дураки, они понимают, когда сделали что-то хорошо, а когда нет. И если мне учитель не может честно сказать, что сегодня я напортачил, значит, со мной в целом что-то не так. Просто нужно разделять человека и результаты его работы. Отношение к работе должно быть строгим, отношение к человеку — принимающим и благожелательным. Тогда вполне можно дать хорошее образование.
Ребенку трудно сидеть сорок минут и слушать учителя. Говорят: как можно заставлять ребенка? Но есть другая правда: учиться сдерживаться физически очень важно. Хочешь в туалет, но сдерживаешься, пока добежишь. Долго сидеть трудно, но трудно — не значит вредно. Обучение всегда связано с преодолением. Даже физическая поза и интеллектуальные занятия связаны: сидя за столом и лежа в теплой ванне, можно делать разные вещи.
6. Полная свобода выбора для ребенка — это хорошо или плохо?
Дмитрий Шноль:
Лет до 13 ребенку хочется авторитета, ему нужно, чтобы мир стоял на понятных основаниях. Потом он будет бунтовать и оспаривать все в подростковом возрасте, но пока ему нужно, чтобы взрослый был взрослым. Власть взрослого воспринимается как норма. Но сейчас принято считать, что свобода хорошо, а авторитет — нет. Этот взгляд подтверждается бурным развитием техники: взрослые не разбираются в том, что понимают дети, какой же у них может быть авторитет? Такого вообще никогда не было в истории человечества: взрослые всегда были опытней (хотя мне кажется, что это проблема только нашего времени, скачкá технологий, и дальше так не будет). Ребенку некомфортно, когда он должен решать за взрослых. Родители спрашивают в зоопарке четырехлетнего малыша: налево пойдем или направо? К тиграм или к слонам? А у него истерика: взрослые стоят и ждут, куда он их поведет, а он ни тигров, ни слонов никогда не видел и ничего решить не может. Есть вещи, которые с ребенком можно обсуждать, а есть то, что не обсуждаемо. Надо понимать, какая нагрузка ложится на ребенка, чтó он может и хочет выбирать.
Александр Ковальджи:
Конечно же, детей нужно приучать к самостоятельности, но всегда ли они готовы сделать разумный выбор и тем более за него отвечать? Не пытаемся ли мы переложить свою ответственность на хрупкие детские плечи?
Академик Владимир Арнольд рассказывал, что его внук, учившийся в Америке, выбрал себе вместо трудной математики легкую историю джаза, поскольку по очкам (которые набираются учеником во время обучения. — И. Л.) они стоили одинаково. Взрослые провоцируют детей на якобы самостоятельный выбор, а на самом деле искушают их поиском легких путей. Аналогичная ситуация в вузах некоторых стран Европы, в которых студентам позволяют выбирать курсы. В большинстве случаев они выбирают не те курсы, которые важнее для их будущей профессии, а те, которые легче сдать. При этом я никак не против спецкурсов по выбору или выбора курсов повышенного уровня сложности в рамках обязательной программы. Иначе говоря, должно быть обязательное ядро, за рамками которого можно осуществлять выбор.
7. Отечественное образование всегда было ориентировано на фундаментальные знания. В последние десятилетия стали популярны новые подходы, ориентированные не на знания, а на умения, на компетенции. Как найти правильный баланс между одним и другим?
Михаил Поваляев:
Человек, не имеющий знаний, как правило, и не компетентен. Нам хочется, чтобы учиться стало легче, и так иногда бывает, но не всегда. Если вам учиться не так же трудно, как сто лет назад — с высокой вероятностью вы недорабатываете. Идея «посмотреть в Интернете» не работает потому, что надо сначала знать или хотя бы подозревать, чего ты не знаешь и что надо посмотреть в Интернете или в книжке. Возможность обратиться к справочным материалам растет вместе со стремительным увеличением объема знаний, скорее даже отстает от него. Человек, который знает много, но не умеет рассуждать, встречается намного реже человека, который ничего не знает и знать не желает и не имеет никакой базы для гипотетических умственных упражнений.
Александр Ковальджи:
По-моему, это неправильная постановка вопроса. Например, великий физик Л. Ландау ничего не умел делать своими руками, но при этом был гениальным теоретиком, который объяснил сверхтекучесть гелия. Можно ли сказать, что у него не было умений?
Мы попадаем в ловушку, когда произносим, казалось бы, общеизвестные слова «знания» и «навыки», поскольку эти слова можно наполнить разным смыслом. Запомнить что-либо — это еще не знания, поскольку необходимо понять, чтó мы узнали, к чему мы узнали, как это связано с предыдущими знаниями, какого уровня эти знания (от конкретного до философского). Знания надо не столько запомнить, сколько освоить и присвоить, т. е. понять их значение, понять их место в системе знаний, сделать их частью своего культурного и интеллектуального багажа.
Есть такая поговорка: «не в коня корм» — вроде бы что-то съел, а не насытился, и сил не прибавилось. К сожалению, в школе есть кошмарное слово «прошли», а школьники или родители добавляют «прошли мимо»: учителю надо гнать программу, у него нет времени останавливаться и «латать дыры» у отстающих учеников, поэтому все силы он сосредотачивает на том, чтобы заставить ученика выучить материал наизусть, и за это ставит положительную отметку. Начав так делать, уже нельзя остановиться, потому что запоминание без понимания накапливается, и потом уже понять что-либо невозможно, можно только продолжать заучивать. А это означает, что ученик не приобрел ни знаний, ни умений, он научился только их имитировать.
В этом кроется разгадка ошибочного расхожего мнения, что дети в школе страшно перегружены огромными объемами информации, которую они не в состоянии запомнить. А причина перегрузки именно в заучивании без понимания, поскольку память ребенка — это не жесткий диск, на который можно записать что угодно, ребенок хорошо усваивает только то, что имеет для него смысл, то, что связано с его опытом, то, что имеет эмоциональную окраску. А когда он что-то понял, вот тогда можно запоминать, тогда материал будет легче извлечь из памяти, поскольку он обрастет ассоциативными связями. Дети, которые учатся осознанно и постоянно задают вопросы, могут и хотят запоминать в разы больше информации, чем требует школьная программа, и им это в радость.
8. Образование должно готовить к будущей жизни и работе. Можно ли сказать, что оно справляется с этой ролью?
Михаил Поваляев:
Роль образования в элитогенезе (формировании элиты. — И. Л.) изменилась. К элите (властителям не столько дум, сколько внимания) относятся люди часто не слишком образованные (артисты, певцы, спортсмены).
Анна Елашкина:
У современных детей нет образа будущего. В советское время вся информационная индустрия работала на то, чтобы транслировать молодежи, как и с кого жизнь строить. Мы смотрели фильмы и читали про сталеваров, про физиков и врачей, про геологов и учителей. Нам понятно было, какова карта профессий в стране. Сейчас студенты демонстрируют полную дезориентацию. Они понятия не имеют, что происходит во взрослом мире. Даже если рядом есть успешные инновационные фирмы (а у нас в Новосибирске это так, во многом за счет Академгородка), студенты про это ничего не знают, не понимают, как эта жизнь устроена, а рассказом не передать...
Не все готовы быть супербойцами. Хорошие люди часто вовсе не вояки, не жаждут заработать много денег, они хотят просто заниматься чем-то осмысленным и дающим возможность выжить. На таких людях держится страна, и именно такой молодежи сейчас очень тяжело.
Дмитрий Шноль:
Нынешняя школа — феномен новый, необычный в истории человечества: современный ребенок не видит, как работают взрослые, по сути, школа — это его место встречи с тем, как работает взрослый мир. Отсюда тяжелые профориентационные проблемы: ребенок не представляет, кем он может быть. Он не пробовал себя в разном деле, как раньше деревенский ребенок или городской подмастерье. И от того, видел ли он взрослых, которые работают с удовольствием, будет зависеть, вырастет ли он потребителем, убежденным, что работа — это мука, а хорошо только отдыхать. И школа вряд ли решит эту проблему в ближайшем будущем.
9. Надо ли учить детей мировоззрению?
Михаил Поваляев:
Обязательно. Если мы не считаем, что попытка научения приводит к непреодолимому отвращению к предмету. Такие вопросы, как, например, Бог и эволюционное учение, должны обсуждаться всерьез.
Дмитрий Шноль:
Учить мировоззрению не надо. Современное целостное мировоззрение — в том, что все относительно. Это можно дать за две минуты. Мы недавно пережили советский эксперимент по внедрению в школе марксистско-ленинского мировоззрения. Все знали нужные слова, но они не играли никакой роли в реальном поведении человека в длинной очереди или в армейской казарме. В критической ситуации все это моментально слетает как шелуха, и обнажается подлинная сущность человека. Так и христианское мировоззрение внушать бессмысленно. Если оно не прожито, оно моментально отлетит за порогом школы. Нужно не мировоззрение прививать, а рассказывать истории, которые каждый прилагает к себе: «я бы поступил так же», «я бы ни за что»... Теория уходит, а истории-притчи с нами остаются. И со временем ту же историю понимаешь по-другому. Чтобы человек мог ориентироваться в мире, ему нужен базовый набор историй: семейных, национальных, общечеловеческих..
Нас что воспитывало-ломало? Истории о пионерах-героях. О том, что тебя не полюбят, пока ты не умрешь. И вот постсоветская особенность — в том, что у нас очень мало позитивных историй жизни. Только истории о героической смерти. Если бы школе удалось эту матрицу изменить — это было бы большое движение вперед, и это было бы очень патриотично.
Анна Елашкина:
В ситуации, когда у человечества поплыли все представления об устройстве мира, никакого целостного представления о мире образование не дает. Школьник к пятому классу уже набрал такое количество постмодернистских клише о мире и человеке из фильмов, игр, разговоров взрослых, что к средней школе шансов сохранить целостность восприятия мира у него уже нет. Работать с этим надо с начальной школы. Когда у вас в классе атеисты, православные, буддисты, кришнаиты, мусульмане, гностики и агностики — это и есть реальность. Причем все эти картины мира не проработаны, осведомленность и детей, и взрослых — на уровне желтой прессы и пересудов бабушек на улице.

Я веду историю философии. Мне приходится обсуждать разные картины мира прошлого и настоящего. Основное требование, которое крайне трудно доходит даже до студентов философского факультета, — надо хотя бы знать, о чем мы говорим. Они даже не подозревают, что существует целый пласт знаний, которых они лишены. Не зная о своем недостатке, не понимают, как смешны их рассуждения о религиях, например. Если речь идет о научной картине мира, то в чем она состоит? Если о буддизме — что это? Что мы должны признать, если становимся на эту точку зрения, к чему это приведет в жизни? Про православные догматы я даже не говорю. Даже чтобы просто их запомнить, ребенку надо иметь достаточно хорошо организованное мышление. А оно к средней школе разбито, размыто потоками информации, которые никак не связаны между собой. Ребенок просто перестает думать, сопоставлять, потому что даже не надеется все это как-то осознать. Учителя не виноваты. Это просто наша современность.
При этом, чтобы учить мировоззрению, надо сначала научить хотя бы последовательно мыслить, сосредоточивать внимание на одном вопросе. Не мне рассказывать учителям, насколько это сложно сделать. Скачки внимания и неумение остановить поток сознания — вот беда. Аскеза мысли — это не безмыслие, это сосредоточенность, умение удержать предмет рассуждения или созерцания. Это та роскошь, которую многие дети не могут себе позволить, их не научили. А все информационное пространство с такой аскезой активно борется. Про существующие мировоззрения, безусловно, надо осведомлять, но не давить на волю ребенка. А вот учить надо умению сосредоточенно мыслить, не бояться проблемных вопросов и ориентироваться в них. В этом задача современного просвещения и, если хотите, миссионерства. Первичная дисциплина ума, ну и — русская и мировая литература. Читать, читать, еще раз читать и обсуждать. Докапываться — откуда автор что взял, подтаскивать в обсуждение первоисточники. Видеть картины мира и логики, в которых двигаются персонажи. Я думаю, такой подход не устарел.
Александр Ковальджи:
Мировоззрение и межпредметные связи формируются медленно, они результат личного опыта и попыток его обобщения, результат поиска себя, результат споров и умения обосновывать свои взгляды. Конечно, можно навязать определенное мировоззрение, но лучше, чтобы у ребенка шла своя внутренняя работа, чтобы учитель и родители тактично задавали наводящие вопросы, воздействовали на ребенка своим образом жизни.
Проблему формирования мировоззрения нельзя ставить как учебную, на эту тему нельзя устраивать контрольные работы и зачеты, — это проблема глубоко личная. Вообще, есть замечательная мудрость: «Нельзя научить, но можно помочь научиться».
10. Что из того, чего не хватает в школе, могут сделать родители?
Алексей Сгибнев, заведующий кафедрой математики московской школы «Интеллектуал»:
Читаю сейчас у английского педагога Джеффа Петти («Современное обучение»): школа поддерживает, стимулирует и поощряет только узкую часть способностей и возможностей детей — академическую, игнорируя социальную, практическую, креативную деятельность. А в походах, в экспедициях могут проявиться совсем другие качества ребенка: оказывается, он может всех построить, все организовать... Хорошая школа должна предлагать не только сидение за партой, но и самую разнообразную деятельность — в летних школах, поездках, экспедициях дети раскрываются совсем с неожиданной стороны: оказывается, кто-то может организовать других, на него можно положиться в походе. Когда школьник может найти свою нишу, повышается и общая успешность.
Из школы почти ушла практика, исчезли лабораторные работы. Недавно в газете «Троицкий вариант» биологи жаловались, что дети не узнают под микроскопом гидру, которую уже прошли по биологии. Нужно дать ребенку как можно больше увидеть, потрогать руками, сделать самому. Даже бумажные самолетики — и те ушли из детской традиции. Я недавно принес на занятия детские кубики — был бурный восторг, стали разбираться, как собрать конструкцию по схеме.
Очень помогут и школам, и родителям разные формы дополнительного неформального образования. В последние пять лет наблюдается его бурный рост: в летних школах нет свободных мест, для детей устраивают квесты, проводятся фестивали наук, существуют интерактивные музеи. Пять лет назад мы с трудом находили для летней школы интересные экскурсии, сейчас у нас много объектов для посещения. Очень трудно сказать, какой выпускник выйдет из серенькой школы, если он постоянно ходит на хорошие выставки и в музеи. Но водить его туда обязательно надо — хотя бы для того, чтобы была мотивация учиться.
Дмитрий Шноль:
Что могут родители? Читать вместе с детьми, обсуждать прочитанное и увиденное, путешествовать, водить к себе на работу, устраивать на работу летом — скажем, ассистентом педагога или вожатого, это очень ценный шанс что-то узнать про себя. Вообще, помогать детям осознать, что за пределами школы существует реальный мир и что образование помогает его понять.
Михаил Поваляев:
Родители вообще должны иметь привычку думать. У детей думающих родителей образовательные результаты, как правило, выше. «Пока ты не святой, будь образованным», как сказал митрополит Сурожский Антоний.