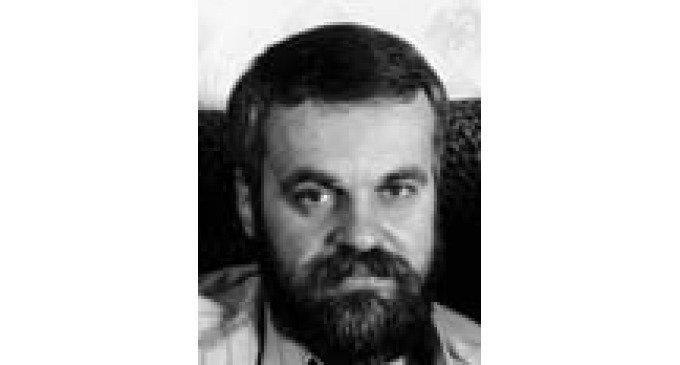Идеальный ответ на вопрос о свободе творчества дал Пушкин в сонете «Поэту»:
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Ключевое слово здесь не свободный, хоть оно и повторяется дважды, а — взыскательный. Ибо если художник не взыскателен, не беспощаден по отношению к самому себе и своим сочинениям, то все разговоры о свободе дара теряют смысл. Это не самоцензура, а соображения более высокого порядка: для Пушкина эстетическое если не важнее этического, то по меньшей мере стоит вровень с ним, а точнее, никакого противоречия меж ними нет — гений и злодейство несовместимы. Талант, божественный дар несет оправдание в самом себе, и любые попытки указывать носителю этого дара что-либо со стороны — партийной, государственной, революционной или даже церковной — направлять художника, управлять им, учить его бессмысленны.
В пушкинском мире недостаточно одаренный человек может быть завистлив, а точнее, оскорблен кажущейся несправедливостью Провидения, наделившего талантом не того, кто этого таланта более достоин (так труженик Сальери бунтует против Неба в своем отношении к праздному гуляке Моцарту), но служить злу настоящий, полноценный талант не может. Уже по этой причине ограничивать его свободу бессмысленно, а вот за высокое общественное служение поэт достоин благодарности потомков:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Но — если это действительно лира, а не профанация.
Примечательно, однако, что, называя свой век жестоким, едва ли автор тех строк мог предугадать, что станет с его страной столетие спустя и как остро зазвучит в новое время вопрос об ответственности художника. А между тем старший современник Пушкина Иван Андреевич Крылов еще в 1816 году написал басню «Сочинитель и разбойник», к сожалению, не слишком известную, но достойную того, чтобы процитировать ее максимально широко в назидание всем пишущим.
Суть басни в том, что на Страшном суде предстают двое: грабитель и «покрытый славой сочинитель». Подчеркнем — талантливый сочинитель. Наказание разбойника быстро заканчивается, а сочинителя мучают долго, и причины этих мучений объяснены ему предельно ясно:
«Ты ль Провидению пеняешь?
И ты ль с Разбойником себя равняешь?
Перед твоей ничто его вина.
По лютости своей и злости,
Он вреден был,
Пока лишь жил;
А ты... уже твои давно истлели кости,
А солнце разу не взойдет,
Чтоб новых от тебя не осветило бед.
Твоих творений яд не только не слабеет,
Но, разливаяся, век-от-веку лютеет.
Смотри (тут свет ему узреть она дала),
Смотри на злые все дела
И на несчастия, которых ты виною!
Вон дети, стыд своих семей, —
Отчаянье отцов и матерей:
Кем ум и сердце в них отравлены?— тобою.
Кто, осмеяв, как детские мечты,
Супружество, начальства, власти,
Им причитал в вину людские все напасти
И связи общества рвался расторгнуть? — ты.
Не ты ли величал безверье просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облек
И страсти и порок?
И вон опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами
И до погибели доведена тобой!
В ней каждой капли слез и крови — ты виной.
И смел ты на богов хулой вооружиться?
А сколько впредь еще родится
От книг твоих на свете зол!
Терпи ж; здесь по делам тебе и казни мера!»
Современники полагали, что Крылов имел в виду Вольтера и Французскую революцию, французская критика была оскорблена, однако независимо от того, метил или нет Иван Андреевич в Вольтера и belle France, многое из высказанного в этой басне сбылось в России десятилетия спустя. По крайней мере, по отношению к культуре Серебряного века «дедушка» попал не в бровь, а в глаз: многое, очень многое в безбожии и кровавой бане советских лет было подготовлено «богоискательством» отшатнувшихся от Церкви декадентов. И те тяжкие годы, когда само понятие свободы стало вызывать у властей предержащих (власть предержащая или власти предержащие) подозрение, а за творчество принялись бросать в тюрьмы или убивать, странным образом стали дьявольской пародией на крыловскую басню, низкой обезьяньей местью за обезьянничество высокое.
Что ж нынче? Художник не имеет такой власти над толпой, как в прежние времена, и с этой точки зрения он и властям не так интересен, и «гореть» ему, наверное, не дольше, чем разбойнику. Творчество из высокого призвания становится мало-помалу профессией. Это процесс мучительный, непростой, со многими исключениями и оговорками, тем более драгоценными, но все равно меня не оставляет ощущение, что мы живем в переходное, в каком-то смысле последнее творческое время, и чем дальше будем двигаться по тому пути, на который встали, тем меньше творцов в высоком смысле этого слова у нас останется. А если и останутся — творчество неистребимо! — они будут все менее и менее заметны, уйдут в тень, в невольное изгнание, где свободы окажется столько, что никто не будет знать, что с ней делать. Художник превратится в Робинзона, и на смену ему придут, а кое-где уже и пришли, крепкие профессионалы. Но у тех какая свобода? Тотальный рынок, на котором продается не только рукопись, но и вдохновенье.
Единственное — никто тебя не неволит на этот рынок идти и по его законам жить.
Хочешь продаваться — продавайся. Не хочешь — терпи.
Ты ведь все равно — царь. Живи один…
Живи и не жалуйся.
Читайте также проекте "Свобода творчества":
СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА: ЕСТЬ ЛИ ГРАНИЦЫ?
Гор ЧAХАЛ, ХУДОЖНИК: «ПРОВОКАЦИЮ Я ПРИРАВНИВАЮ К ПРЯМОМУ ДЕЙСТВИЮ, КОТОРОЕ НЕДОПУСТИМО»
Писатель Вячеслав РЫБАКОВ: ПРЫЖОК В ВЕЧНОСТЬ
Виталий Каплан: ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА или Опять о свободе творчества