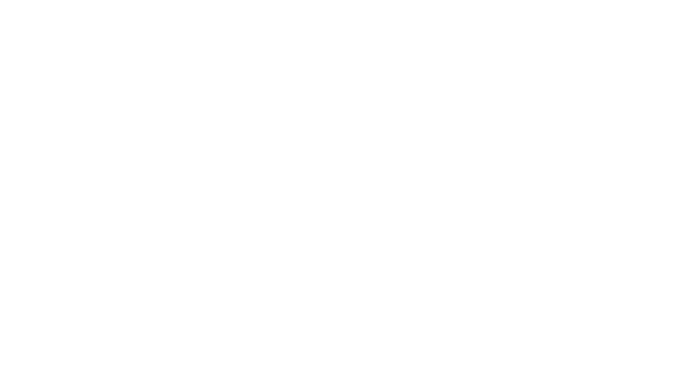
«А пошалить хочется очень, мы ведь не так много и хочем, каждый отец и даже отчим это поймет…»
Это мы в студенчестве пели такую песенку. И пошалить иногда очень хочется, да. Но шалости в серьезном мире взрослых обычно не слишком приветствуются. Каждый из нас наверняка в детстве слышал — хватит валять дурака, займись делом.
У моей мамы даже присказка такая была — «хорошего помаленьку». Иногда мама переставала быть правильной мамой и делалась неправильной: рисовала нам на стене Микки-мауса — почему-то пальцем, а не кисточкой; то совала два пальца в рот и по-разбойничьи свистела. Мы так любили эти мамины мелкие шалости — но мама вдруг делалась серьезной и опять говорила: хорошего помаленьку.
Почему дети шалят? Потому что распирает энергия, потому что хочется понимать и познавать мир, пробовать его на вкус и на ощупь, и совершенно невозможно рассказать взрослому, что какую-то очередную глупость ты сделал просто потому, что нравилось, как свежая краска загибается кудрявой стружкой, когда ты ведешь ногтем по только что окрашенному столу… Вандализм, да. Или нравится лязг ножниц, когда ты ими режешь махровую ткань. Или ощущение вибрации связок, когда ты орешь во весь голос какие-то глупости. Или чувство полета, когда ты со всех ног куда-то мчишься. Поэтому детям так трудно ответить на вопрос «зачем ты это сделал». Да низачем. Из познавательного интереса. В рамках обогащения чувственного опыта. Это не природная испорченность и не склонность к варварству и вандализму. Так что же — хвалить за это? Нет. Но лучший способ воздействия все-таки не наказание и два часа в углу, а естественные последствия: была вещь — нет больше вещи. Испортил — чини. Ободрал — закрашивай.
Это, конечно, если не брать случаи медицинские: когда ребенок прогрызает рукава от тревожности или портит вещи домочадцев изо дня в день. Это скорее о шалостях, о любопытстве, безделье и пробах силушки богатырской. Конечно, лучше направить эту стихию в общественно-полезное русло. Но тут есть еще одна коварная опасность.

Никто не совершенен. Идеальным быть вообще очень трудно, а ребенку быть все время хорошим, послушным и правильным — невыносимо. Хуже того, идеально хорошие дети иногда такие засахаренные, что кажется — дотронься и прилипнешь. Идеально хорошему трудно признать в себе плохое и трудно держать его в себе. Ему нужен какой-то внутренний Карлсон, который будет украшать башни из кубиков тефтельками и взрывать паровые машины — а иначе рано или поздно взорвется сам ребенок. Мне рассказывала одна взрослая дама, в детстве паинька и отличница, как она, десятилетняя, в пустынном месте писала на заборе известное слово — с наслаждением чувствуя себя совсем другим человеком, а может, и не человеком: не доброй домашней собачкой, а опасным хищником. Не Карлсоном, а мистером Хайдом из новеллы Стивенсона.
Человечество давно придумало способы безопасно спустить пар: отсюда карнавалы, святочные маскарады — когда можно какое-то время быть не собой, валять дурака, ходить в тулупе мехом наружу и мазать лицо сажей — оставляя в стороне социальный статус: на карнавале неважно, член ты парламента или учительница начальных классов. Недаром пьеса Михалкова о детях, восставших против взрослых, называется «Праздник непослушания»: бунт — это прежде всего праздник. Праздник-путаница, квипрокво: день становится ночью, дети взрослыми, на обед дают конфеты, а на сладкое хочется колбасы. Жабы по небу летают, рыбы по полю гуляют, — вся эта путаница обязательно нужна растущему человеку, чтобы он понимал норму и ценил норму. Оттого и политические демонстрации во времена заморозков принимают форму карнавала, праздника, радостного дуракаваляния. Оттого во всякой революции есть элемент абсурда, карнавальной неразберихи: матрос руководит министерством, акушерка заправляет культурой…
Да, у всякой карнавальности есть и оборотная сторона — темная, физиологическая, стихийная, разрушительная. Оттого ревнители благочестия так боролись со скоморохами, а протопоп Аввакум у них «и медведей двух великих отнял, — одново ушиб, и паки ожил, а другова отпустил в поле». Оттого профессор Преображенский яростно выступал за то, чтобы каждый занимался своим делом: оперировал вместо пения хором или подметал улицы вместо того, чтобы «устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев», — иначе разруха неизбежна.
Но чем суровей запреты, чем обязательней требование аскезы и благонравия — тем безобразнее бунт против навязанных запретов. Чем строже наказывают за кражу варенья — тем мрачнее будет следующая шалость, тем ближе к пакости. Чем больше ханжества в обществе — тем соблазнительней карнавал. Чем свирепей разгоняют демонстрацию с шариками и смешными лозунгами — тем менее смешными они делаются в следующий раз.
И тогда вместо Карлсона с его низвождением, курощением и дуракавалянием появляется мистер Хайд.









