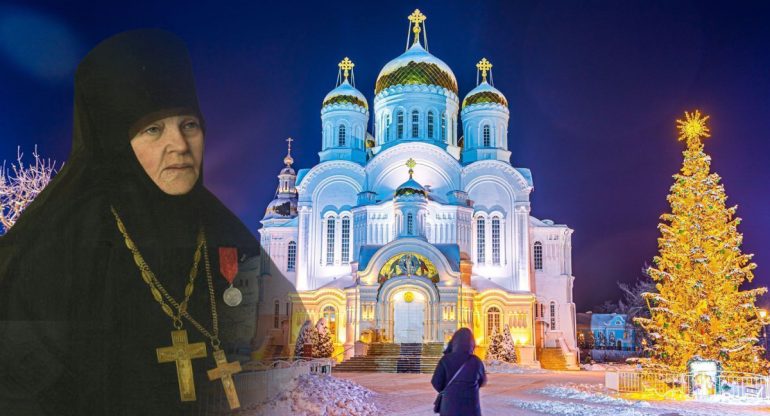«За что погибли эти люди?» — думал он, когда оказался на площади Трех Культур в столице Мексики, где в октябре 1968 года правительственные войска расстреляли студенческую демонстрацию. А ведь еще несколько месяцев назад он и сам, вдохновленный порывом к свободе, выступал перед митингующими. Прошло 50 лет, и сегодня наш герой уже совсем не склонен романтизировать протесты 1968 года, хотя парадоксальным образом именно эти события он связывает со своим приходом в Церковь.
Наш собеседник — Алексей Викторович Шестопал, доктор философских наук, профессор кафедры философии МГИМО МИД России.

«Я взошел на трибуну и стал громко и с выражением читать стихи Маяковского»
— Алексей Викторович, Вы — очевидец событий 1968 года. Теперь они стали легендарными, о них пишут в учебниках истории...
— Да, я действительно был непосредственным свидетелем протестов 1968 года. Причем я видел протесты не только в Латинской Америке, но и во Франции, где был тогда проездом несколько дней.
Помню, как по парижским улицам нескончаемым потоком шли молодые люди и кричали: «Че! Че! Че Гевара!», «Хо! Хо! Хо Ши Мин!» Это впечатляло! Передо мной шествовало «поколение 68-го» или, как его еще называли, «поколение свободы», которое сыграло огромную роль в истории второй половины XX века. Но лично для меня 1968 год — это прежде всего Мексика.
Я тогда был журналистом и аспирантом МГИМО и должен был стажироваться в Эль Колехио де Мехико (высшее учебное заведение, которое готовит специалистов в области политических и социальных наук. — Ред.). Кроме того, в 1968 году в Мексике проходили летние Олимпийские игры и приуроченная к ним Олимпиада молодежи, и я был членом международного экспертного комитета этой Олимпиады. Прилетев в Мехико, я несколько дней провел в мастерской знаменитого мексиканского художника Давида Сикейроса — смотрел, как он работает, слушал его помощников, которые бурно обсуждали демонстрации в США и во Франции. Сам Сикейрос, участвовавший в молодости в Мексиканской революции, а затем и в Гражданской войне в Испании, был необычайно воодушевлен происходящим.
Во время одной из первых демонстраций в столице со мной произошел необычный эпизод.
Участники митинга в Национальном университете узнали, что я из Советского Союза — а к нам тогда многие мексиканцы испытывали большую симпатию, — и меня попросили выступить. Я к такому был совершенно не готов. Хорошо, что нашелся человек, который подсказал мне прочитать стихи «кого-нибудь из ваших». Мне вручили книжечку Маяковского, я поднялся на трибуну и стал громко и с выражением читать его стихи. Аудитория встретила мое выступление с бурным восторгом.
А вот наш Олимпийский комитет отнесся к моему триумфу иначе: меня, от греха подальше, отправили путешествовать по всей стране. Олимпиада, сказали мне, не только на столичном стадионе будет проходить, и мне, как журналисту, надо бы познакомиться и с другими спортивными объектами. И, как оказалось, мне крупно повезло. Благодаря этому решению комитета я проехал по всей стране и мог видеть, как на моих глазах повсеместно нарастало молодежное протестное движение. Не скрою, тогда, единственный раз в своей жизни, я с восхищением наблюдал за этой людской лавиной, за этим извергающимся вулканом протеста и борьбы. Оно и понятно: мне было 24 года.
В Мексику я вернулся осенью, как раз после разгона правительственными войсками протестующих на площади Трех Культур, вошедшего в историю как «Резня Тлателолько» (по официальным данным, погибло несколько сот человек. — Ред.). В городе повсюду чувствовалось напряжение: на улицах военные патрули, бронетранспортеры. Нас привели на эту площадь, показали, где лежали тела убитых, — многих из них я знал лично.

— А как Вы лично воспринимали тогда эти события? Чувствовали ли солидарность с протестующими?
— Конечно, тогда мне импонировали протесты. Однако второй приезд в Мексику подействовал на меня отрезвляюще. Я осознал, что романтизировать протест нельзя. «За что погибли эти люди?» — думал я тогда. Ответить на этот вопрос я не могу и сегодня. Но одно могу сказать точно: для многих знакомых мне людей 1968 год стал толчком к вере. А если говорить о себе… Прошло 50 лет. Мне уже 74 года, и я могу сказать определенно, что очень благодарен опыту 1968 года.
Дело в том, что мое отрочество и юность не были отмечены религиозными размышлениями.
Я вырос в интеллигентской среде — не атеистической, но и не верующей. Однако с самого детства я был глубоко погружен в русскую культуру, которая все-таки зиждется на христианских ценностях. Это внутренне подталкивало меня к размышлениям на религиозные темы и в конце концов — к принятию веры. И в этом внутреннем, для меня самого тогда еще не осознанном процессе 1968 год стал своего рода спусковым механизмом, который как бы поднял меня на другую ступень. Думаю, что как раз тогда и начался мой длинный путь в Церковь.
— Что же в событиях 1968 года запустило этот процесс?
— Я осознал, что даже самые радикальные попытки преобразовать мир обречены на провал, что решение проблемы человеческой неустроенности в этом мире лежит где-то в другой плоскости. Как недавно отметил один мой коллега: «Русская история — совершенно удивительное явление. До поры до времени все в ней развивается медленно, неторопливо, пока вдруг не рванет и не произойдет резкий радикальный поворот на… 360 градусов». То есть с чего начали, тем и закончили. Мне кажется, что протесты 1968 года в каком-то смысле похожи на такой поворот — на 360 градусов. Общество не стало свободнее, наоборот, после нового исторического витка возникли новые формы принуждения.
Мир как «глобальная деревня»
— А как Вы думаете, правомерно ли причислять события 1968 года к одним из самых значительных, поворотных для второй половины XX века? Не преувеличение ли это?
— Я полагаю, что это вполне справедливо. Хотя, конечно, не стоит забывать и о других, не менее значимых событиях той эпохи: первый полет человека в космос, завершившийся процесс деколонизации, когда главным образом Франция и Великобритания постепенно покинули свои колонии, окончание холодной войны и развал Советского Союза.
Однако события 1968 года в некотором смысле стоят особняком, потому что в значительной степени были связаны с самим обществом, с его структурными изменениями. Безусловно, это было время интенсивных духовных исканий, время кризиса, и не только социального и правового, но и мировоззренческого. Кроме того, демонстрации и протестные настроения, которые захлестнули тогда почти весь мир, ознаменовали то, что в социологии принято сегодня называть переходом от индустриального к постиндустриальному обществу.
В 1968 году в Мексике зародилось студенческое движение. Его участники были недовольны деятельностью президента, в частности — проведением в стране дорогостоящих Олимпийских игр. Помимо решения назревших экономических и социальных проблем, студенты требовали полной университетской автономии. Протестное движение стремительно росло, однако осенью было жестоко подавлено. 2 октября на площади Трех Культур в столице Мексики правительственные войска расстреляли демонстрацию.
— А в чем разница между индустриальным и постиндустриальным обществами?
— В течение нескольких десятков лет благодаря научно-технической революции, начавшейся еще на рубеже XIX–XX веков, произошел колоссальный прорыв в военной технике, в производстве энергии, включая открытие внутриядерной энергии и создание атомной бомбы, в медицине и, конечно, сфере передачи информации, прорыв, превративший мир в «глобальную деревню»: земной шар как бы «сжался» до размеров захолустной деревушки — настолько быстро распространяется там теперь информация.
Параллельно в начале XX века началась глобализация. Складывался единый, глобальный рынок, границы между культурами постепенно стирались, начался процесс их взаимопроникновения. Теперь один и тот же человек может увлекаться йогой, носить английские костюмы, любить японскую кухню и читать русскую классику — это и есть почерк глобализма.
Изменился и сам человек. Произошел постепенный демонтаж прежней системы ценностей, вслед за которым начался медленный и очень болезненный процесс выстраивания новой.
Наконец, в постиндустриальном обществе на передний план выходит специалист, ученый, креативщик, менеджер, иначе говоря, человек, способный работать с огромными потоками информации, — вот кто становится востребованным на рынке труда. И этот новый человек постиндустриальной эпохи уже иначе воспринимает то, каким должен быть социальный порядок.

Этот новый человек-креативщик не может и не хочет работать «по гудку», потому что он не производит свой продукт на конвейере. Его по большей части творческая деятельность требует большего пространства для самореализации, большей гибкости в организации времени, большей независимости.
Более того, всякая внешняя форма принуждения — исходит ли она от общества, государства или Церкви — вызывает у него «аллергию». Ему кажется, что они стесняют его, препятствуют саморазвитию. Он хочет, чтобы под булыжником мостовой был… пляж. Пляж здесь — метафора свободы, творчества, раскрепощения. Таков, как мне кажется, внутренний, скрытый смысл одного из самых известных лозунгов протестов 1968 года.
Философы Франкфуртской школы первого поколения (ряд философов XX века, которые критиковали индустриальное общество. — Ред.) писали, что индустриальное общество всегда тяготеет к тоталитаризму, оно порождает авторитарную личность. А вот постиндустриальное всеми силами противится такому социальному порядку. Оно стремится к демократизации, духовному раскрепощению человека. Однако вместе с развитием технологий увеличиваются и возможности манипулирования общественным сознанием.
«Дети выражали протест своих родителей»
— И как же этот переход был связан с событиями 1968 года? И почему протестные настроения оказались настолько глобальными?
— Дело в том, что само индустриальное общество зиждилось на ценностях и смыслах просвещенческой модели культуры, которая зародилась в XVII веке и была доминирующей в Европе на протяжении более чем трех столетий. За это время сложился особый тип мышления, ориентированный на строгую рациональность, объективность, если угодно, математическую точность, презирающий все иррациональное, в том числе религиозное. Однако к середине XX века этот тип культуры столкнулся с кризисом. И не последнюю роль в этом сыграли катастрофы Первой и Второй мировых войн.
И одновременно началась волна повсеместных протестов, причем самых разных: рабочие и служащие выступали против давления предпринимателей и за улучшение условий труда, за сокращение рабочего дня; национальные меньшинства выступали против расовой дискриминации; студенты — против внутренних ограничений системы образования и за автономию университетов. А молодежь протестовала против, как ей казалось, устаревших норм морали, и ее настроения были крайне антиклерикальными.
И все эти разные по своей социальной природе движения друг друга подпитывали, перекликались друг с другом, усиливая и «глобализируя» протест. Причем нельзя сказать, чтобы люди, заряженные этой вспышкой глобального несогласия, понимали, что происходит на самом деле. Студенты, бежавшие в мае 1968 года по улицам Парижа с криками: «Че! Че! Че Гевара!», «Хо! Хо! Хо Ши Мин!», скорее всего, плохо знали, что на самом деле происходит в Латинской Америке или во Вьетнаме. Так же, как, восхищаясь «культурной революцией» в Китае и размахивая на демонстрациях маленькой красной книжечкой — «Цитатником Мао Цзэдуна», они не представляли себе, какие зверства творились в это время в Китае.
В 1968 году в Чехословакии правительство провело ряд либеральных реформ под лозунгом «социализм с человеческим лицом». В ответ на это, в ночь с 20 на 21 августа, на территорию страны были введены войска пяти стран Варшавского Договора (СССР, Болгарии, Венгрии, Польши и ГДР). Это спровоцировало всплеск антисоветских настроений по всему миру и усиление диссидентского движения в СССР. В результате процесс экономических и политических реформ в Чехословакии был прерван. В октябре начался поэтапный вывод советских войск с территории страны.
— Ясно, что в массовых демонстрациях 1968 года участвовали в основном молодые люди. Выходит, это был пик недовольства только среди молодого поколения? Тех, кто был постарше, все устраивало?
— Нет, я думаю, что молодое поколение выкрикнуло то, что глобально накопилось во всем обществе. Во многом дети выражали протест своих родителей. Взять, к примеру, движение против расовой дискриминации в США. Можно ли сказать, что пастор Мартин Лютер Кинг, который был убит — внимание! — в апреле все того же 1968 года, и те молодые люди, которые сплотились вокруг него, выражали только протест своего поколения? Конечно, нет. А демонстрации против войны во Вьетнаме? Был ли это протест только тех, кто мог погибнуть на этой войне? Нет, это был протест всего общества.
Одномерный человек
— Демонстрации и волнения в США или во Франции проходили все-таки на фоне стабильного экономического роста. Отчего же именно в этих странах протесты оказались самыми масштабными?
— Действительно, вы правы: перед «поколением 68-го» уже не стояли те материальные проблемы, с которыми столкнулись их родители — страшный экономический кризис 30-х годов, Вторая мировая война, период восстановления после ее окончания. Но этому новому, молодому поколению было мало внешнего комфорта. Оно взалкало свободы, абсолютно нового, духовного раскрепощения. Причем эту жажду испытали и молодые люди в СССР, жившие в условиях, далеких от того благополучия, которое было в Западной Европе и США, а это несколько корректирует поставленный вами вопрос.
В первую очередь мы должны учитывать не уровень экономического развития, а духовную характеристику времени. Что-то назрело и внутри общества, и внутри самого человека. Что именно — ответить непросто. Мне кажется, здесь уместно вспомнить книгу философа Герберта Маркузе «Одномерный человек», которая оказалась очень востребованной в 60-е годы и разошлась огромным тиражом.

Одномерный человек, по Маркузе, — это дитя индустриальной эпохи, лишенный какого бы то ни было выбора. Он — конформист, человек, абсолютно дисциплинированный теми условиями жизни, в которых он оказался с рождения. Само промышленное производство приучило его мыслить одномерно, стандартизированно. Такой человек не способен взять на себя ответственность, быть инициативным, пойти на риск. Он всегда ждет указания сверху, он приучен к жесткому диктату индустрии.
По сути, именно такому человеку противостояло новое поколение, которое в историю вошло как «поколение свободы». Оно требовало раскрытия в человеке его подлинного потенциала, снятия с него цепей всевозможных стандартов, уравнивающих всех людей, делающих их однотипными и однородными.
Отсюда и знаменитые лозунги студентов, протестовавших в мае 1968 года в Париже: «Под булыжниками мостовой — пляж!», «Будьте реалистами, требуйте невозможного!», «Запрещено запрещать!» Более того, в складывающемся постиндустриальном обществе одномерный человек в принципе уже был не нужен.
В 1968 году в США прошли масштабные демонстрации. Протестующие требовали прекращения войны во Вьетнаме и упразднения расовой дискриминации. После убийства Мартина Лютера Кинга — лидера Движения за гражданские права чернокожих в США — более чем в 100 городах начались массовые беспорядки, которые сопровождались столкновениями с полицией. В итоге к 1973 году войска США были выведены из Вьетнама, а в 1974 году в стране был отменен призыв в вооруженные силы. Постепенно была упразднена и расовая дискриминация.
— Известно, что одним из девизов протестующих в США был «Tell it like it is» (англ. — «Скажи все как есть», самая знаменитая сольная работа американского певца Аарона Невилла, с которой он в 1967 году возглавил ритм-н-блюзовый чарт журнала «Билборд». — Ред.). А потребительское общество впоследствии переделало его на «Sell it like it is» (англ. — «Продаем все как есть», строчка из песни Дэвида Грэя «Dead in The Water». — Ред.). Не это ли произошло и с глобальным протестом 1968 года? Ведь его лозунги фактически монетизировали, а главных героев — таких как Че Гевара — превратили в «товарные марки». То есть 1968 год «приручили» и подладили под запросы очарованного протестом обывателя? Ему теперь не нужно выходить на демонстрации, достаточно просто купить в магазине, к примеру, майку с революционным лозунгом и на этом успокоиться?
— Да, я вполне могу с этим согласиться. Общество потребления оказалось чрезвычайно гибким и сумело переварить даже такую бурю. Хотя итоги 1968 года были очень разными. Во Франции майские протесты фактически сами собой сошли на нет (равно как и студенческие волнения в ФРГ и Западном Берлине. — Ред.), недаром многие сегодня называют их «революцией, которой не было». Протесты в Мексике подавили при помощи грубой военно-политической силы. И это важно понимать. 1968 год — это не радужный фестиваль свободы, а очень жесткая, иногда кровавая борьба.
Сам креативный класс впоследствии был ассимилирован: талантливых — купили, а тех, кто продолжал протестовать, — либо устранили, либо о них просто забыли. Общество потребления всех сумело пристроить.
В целом, левые движения (речь идет о политических группах, выступающих за социальное равноправие; самые известные из них: коммунисты, социалисты, анархисты. — Ред.) по всему миру пошли на спад. Кто-то принял навязанные силой правила игры и перешел на сторону правых, другие ушли в радикальные подпольные организации. Если говорить об интеллектуалах, то многие из них заняли деструктивную позицию, то есть стали говорить о том, что будущее не за порядком и законом, а за хаосом, за полным разрушением стереотипов. Это была своего рода философия хаоса, достаточно маргинальная до 1970-х годов, но которая стала нарастать после протестов 1968 года. Примечательно также и то, что в ответ на глобализацию постепенно начинается обратный процесс, когда локальные культуры и цивилизации начинают бороться за возвращение к своим корням.
«Поколение свободы» и «поколение ответственности»
— Если бы такая возможность появилась, что бы Вы с тем опытом и знанием, которые у Вас есть сегодня, сказали митингующим весной 1968 года в столице Мексики?
— Скажу честно, что сейчас я не пошел бы выступать на площади перед толпой молодежи. Слишком велика ответственность. Но если бы мне пришлось встречаться и беседовать с ними в более камерной обстановке, то я постарался бы убедить их спокойно подумать над тем, что происходит, прежде чем предпринимать какие бы то ни было действия. Я и как преподаватель на протяжении многих лет на конкретных примерах показываю своим студентам, как важно воздерживаться от скоропалительных и необдуманных поступков. Особенно в ситуации кризиса, когда каждый опрометчивый шаг может обернуться катастрофой. К чему такие шаги приводят, я видел своими глазами — осенью 1968 года в столице Мексики.

— Сегодняшнее западное общество традиционно называют «свободным». Как Вы думаете, именно к такому обществу стремилось «поколение 68-го»?
— Я не думаю, что многие из «поколения 68-го» пришли бы в восторг, увидев сегодняшнее западное общество. Этот диктат меньшинств, отрицание не только религиозных ценностей, но даже общепринятых общественных норм кажется мне совершенно разрушительным. Элементарные моральные нормы, семейные ценности, свобода выражения религиозных чувств — все это, к сожалению, теперь искажается или вовсе табуируется. То, что западное общество пойдет по такому пути, поколение 68-го вряд ли могло себе представить, и вряд ли за такое будущее оно боролось.
В мае 1968 года в университете Париж Х — Нантер, а затем и в Сорбонне начались студенческие протесты. Учащиеся требовали расширить автономию университетов, освободить образование от государственного диктата, отказаться от устаревших, как им казалось, традиционных норм морали. Через несколько недель студенческие волнения переросли в общенациональную забастовку: к протестам присоединились профсоюзы. Однако к концу мая правительство сумело договориться с рабочими. Вскоре протесты сошли на нет. В 1969 году президент Франции Шарль де Голль ушел в отставку, а в стране началась либерализация политической и социальной жизни.
— Протестующие 1968 года по большей части боролись за эмансипацию, за преодоление расизма, за нормализацию условий труда. И складывается ощущение, что такая борьба в какой-то мере соотносится с духом евангельской морали, которая как раз впервые в истории провозгласила абсолютную ценность человеческой личности и ее свободы. Как Вам кажется, насколько уместна здесь подобная параллель? Действительно ли ценности протестующих 1968 года и евангельские ценности в чем-то схожи, или это только кажущееся сходство?
— Это очень важный и одновременно очень сложный вопрос. Действительно, именно в 60-е годы XX века в Западной Церкви происходят значительные сдвиги, которые, на мой взгляд, укладываются в логику 1968 года. Так, на Втором Ватиканском соборе (1962–1965) было заявлено о необходимости начать диалог с современной культурой. Церковь, утверждали многие участники обсуждений, должна быть прогрессивной; она должна обратиться к миру на новом, понятном для современных людей языке.
Тогда же в Латинской Америке зародилось мощное католическое движение — теология освобождения. Это была форма своеобразного христианского социализма, провозгласившая, что бедность является общественным грехом, что христианин не имеет права закрывать глаза на социальную и политическую несправедливость, что всякая форма эксплуатации должна быть уничтожена и так далее. Конечно же, ультрарадикальные, в том числе и партизанские, формы этого движения нельзя было назвать подлинно христианскими; они противоречили самой идее Церкви, задаче, которая стоит перед ней. В теологии освобождения политика зачастую подавляла религию. В конце концов папа Иоанн Павел II это учение осудил. Однако многим в то время казалось, что параллель между евангельской моралью и протестами 1968 года вполне возможна.
Более того, важно понимать, что стремление к свободе, которое в 1968 году достигло своего пика, охватило самые разные страны и вылилось в различные формы. Скажем, для многих протестующих студентов свобода напрямую связывалась с абсолютным отказом от имеющихся законов, правил, традиций, что, в частности, вылилось в появление печально известного движения «Красные бригады» (подпольная леворадикальная организация в Италии, основанная в 1970 году. — Ред.). Для других же, наоборот, 1968 год стал прологом к освобождению от навязанного культурой Просвещения выхолощенного рационализма, вслед за которым началось медленное возвращение к ценностям когда-то утраченного религиозного сознания.
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу так: я, конечно, не теолог, но свобода в христианском смысле этого слова — это в первую очередь внутренняя свобода, это пребывание в Царстве Божием, которое, по словам Христа, внутри нас есть.
Читателям «Фомы» я бы в связи с этим рекомендовал обратить внимание на два знаменитых сборника, написанных русскими философами: «Вехи» и «Из глубины». Первый появился вскоре после революции 1905 года, а второй — уже после событий октября 1917-го. Стержневая идея этих двух сборников очень христианская: прежде чем приступать к изменению внешних обстоятельств, нужно сначала изменить самого себя. Подлинная свобода рождается не из создания для нее каких-то благоприятных внешних условий, а внутри нас — в личном нравственном выборе. Этот выбор всегда должен сопровождаться пониманием последствий, то есть он должен быть ответственным. Свобода и ответственность — нерасторжимы. И хочется спросить: а стало ли то «поколение свободы» «поколением ответственности»? Увы, мне кажется, нет.
Беседовал Тихон Сысоев
Читайте также:
Дух МГИМО: элита, а не мажоры. Интервью Алексея Шестопала журналу "Фома" 2014