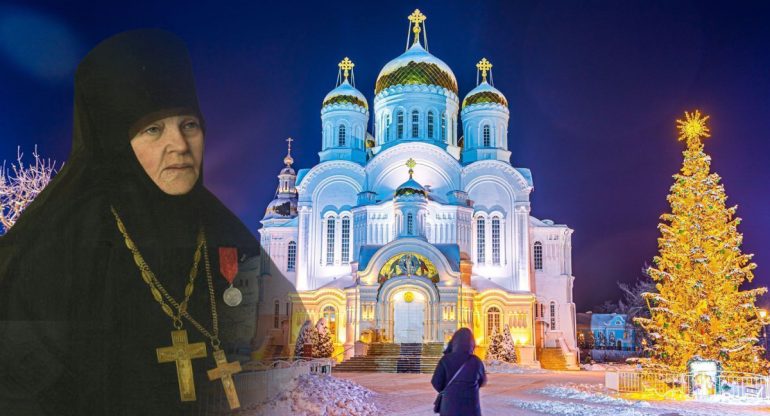Его картины стали гордостью времен социалистического реализма, и сам он — признанный и почтенный классик советского искусства. Но в то же время, если всмотреться в его художественный мир пристальней и настойчивей, становится очевидным, что его работы с парадным, идейным соцреализмом имеют мало общего. А обстоятельства и сюжеты его жизни настолько неожиданны, что разбивают шаблонные представления о сложной и трагической эпохе, частью и одновременно наблюдателем которой он был. Аркадий Пластов — художник поистине парадоксальной судьбы.
Судите сами: Пластов из рода иконописцев, священнослужителей, церковных архитекторов, его жена Наталья Алексеевна фон Вик по происхождению — дворянка из старинного немецкого рода, дочь земского начальника, которого в 20-е годы советская власть преследовала по политическим мотивам. Казалось бы, с такой родословной семье Пластова при советской власти была уготована прямая дорога в стан «классовых врагов народа» со всеми очевидными трагическими последствиями. Однако его не только не коснулись репрессии, напротив, карьера его год от года успешно шла в гору. Он не был членом Коммунистической партии, сторонился высоких партийных трибун, при этом получил Сталинскую премию I степени и был награжден орденом Ленина за большие заслуги в развитии советского изобразительного искусства.

Пластов был человеком верующим, он продолжал открыто ходить в церковь и в советские годы, когда многие боялись и упомянуть о своей религиозности. Это не значит, что перипетии той эпохи обошли его стороной, что он не знал или не понимал, в какое время живет. Вспомнить хотя бы, как в 1921 году, в разгар неустроенности и голода, Пластова — тогда председателя местного отделения Помгола (Комисии помощи голодающим при ВЦИК) — пытались убить его же односельчане. А в 1929 году опять же односельчане писали письма в защиту Пластова, когда его посадили на четыре месяца за «противодействие колхозному строительству»: он выступил против замены в сельском хозяйстве надежных лошадей часто ломавшимися тракторами.
Судьба Пластова вплетается в объемную картину культурной жизни советской эпохи со всеми ее оттенками и обертонами.
«Праздник урожая»: где правда?
В 1937 году Пластов написал «Праздник урожая», одну из самых известных и противоречивых своих работ. На полотне — стихия народного праздника, изобилие угощений, столы ломятся — здесь есть все, что дает земля и крестьянский труд: мёд, овощи, яйца, румяные калачи, рыба.
Пластов очевидно наслаждается этим обилием, достатком крестьянской жизни. Сочно, густыми мазками он лепит форму, выписывая спелые красные помидоры, свежие огурцы, пласты янтарного сотового мёда. А на дворе 1937 год, и кому, как не Пластову, знать, как в действительности в то время жило раскулаченное крестьянство?

Из открытых источников
Аркадий Пластов родом из села Прислониха Симбирской губернии. Он провёл в селе большую часть жизни, сам был и пахарем, и косцом, и жнецом. Был свидетелем раскулачивания и коллективизации, имел возможность видеть, как трудно жилось в колхозах в первые годы советской власти, знал он и про голод в деревнях в 1932–1933 годах, и про количество высланных кулацких семей. И пусть в 1937 году продовольственное положение более или менее стабилизировалось: был рекордный урожай, сокращен экспорт хлеба и колхозы из госрезервов получили зерновые ссуды, но все-таки реальность была далека от того изобилия, которое изобразил Пластов в «Празднике урожая».
Работа была написана к тематической выставке «Индустрия социализма», задача которой восславить промышленные и сельскохозяйственные достижения молодого коммунистического государства. На первый взгляд, перед нами живописный вариант потемкинской деревни, которые строили, чтобы создать ложную видимость процветания, очередной, хотя и талантливый, образец пропагандистского официоза и советского двоемыслия. Однако сам Пластов утверждал, что он ни в чем не отступил от правды. На какой правде настаивает художник? Обратимся к картине.
Открытая композиционная форма, когда все происходящее на картине стремится выйти за пределы холста, скученность, отсутствие композиционного центра. Эти приемы работают на задачу художника — показать размах народных гуляний, неуправляемую стихию деревенской толпы, безудержную радость праздника. И многоцветье композиции подхватывает идею веселой, праздничной неразберихи, толчеи. Красным — самым звонким, активным цветом — Пластов даёт смысловые и пластические акценты: спелые плоды, праздничное платье и, наконец, красный флаг. Под портретом Сталина — алая плакатная лента со знаменитыми словами вождя: «Жить стало лучше. Жить стало веселее».

Из открытых источников
Чем же эта работа отличается от поставленных на поток и скроенных по шаблонам соцреалистической доктрины произведений советского художественного истеблишмента? Здесь Пластов уходит от реальных примет времени. Его художественное видение в другой плоскости, но смотрит он не в утопическое пространство светлого будущего, куда постоянно заглядывают творцы соцреализма. Есть в его мужиках с окладистыми бородами что-то эпическое, они словно явленные в живописном образе герои русских сказаний, повестей и легенд. Безудержная вольная стихия крестьянского веселья, распахнутые в радости, залихватски пляшущие и поющие бабы и мужики, пестрота платков, неуемная гармонь — несмотря на антураж советской эпохи, есть в этом образе та безвременная, раздольная, разудалая Русь, где «пляска с топотом и свистом под говор пьяных мужичков». Мы видели такую Русь у Сурикова, у Репина, читали о ней у Лескова, Бунина, Шолохова. С каким наслаждением Пластов выписывает узорные платки, увесистый самовар — символ достатка на Руси.
Все портретные фигуры, а их на картине восемьдесят пять, — односельчане художника. К картине сделано более двухсот этюдов. Как отмечает искусствовед и член семьи художника Татьяна Пластова, сам автор — часть этой деревенской толпы, он запечатлел себя в образе танцующего военного летчика. На переднем плане в одну линию, словно составляющую главную ось этого крестьянского пира, сидят прислонихинские старожилы — бородатые, крепко скроенные, осанистые мужики с натруженными большими руками с припухшими суставами. Трудная мужицкая жизнь за их плечами.
«Ушёл настоящий образчик настоящего русского мужика, <…> богатырь телом и младенец душой, безропотный работник до последнего вздоха, на все руки мастер, да какой ещё, настоящий крестьянин во всем очаровании крестьянства», — писал Пластов о смерти своего односельчанина Матвея Ивановича Кондратьева. По сути, это признание в любви к традиционной крестьянской жизни. И именно такими — широкими в труде и в гулянии, крепкими, витальными предстают пластовские мужики на картине, не случайно в ней столько сочного, телесного, земного. Но разве не было среди этих мужиков скупых, цепких, жестоких, не было хмельного тяжелого мужицкого загула и бунта — целая галерея таких образов присутствует в русской литературе? Было. Все было. Но не в них настоящий мужицкий стержень для Пластова. Зная своих прислонихинских мужиков, он создает картину изобилия, народного гуляния, исходя не из временных реалий той поры, а следуя внутреннему строю народной души. Они могли быть и такими, его односельчане, вот только жить им выпало в лихолетье войн и революций.

Из открытых источников
В целом картина эта не про колхозные достижения, Пластов размашисто утверждает жизнь в одну из самых нежизнелюбивых и непраздничных эпох. А портрет Сталина на полотне и прочая советская атрибутика — неизбежный в то время компромисс для художника, ищущего возможности существовать в публичном пространстве. Пластов и барельеф Ленина выполнил для дома, где родился Ульянов, и изображал Владимира Ильича среди таинственных вечерних туманов, погруженного в думы о будущем человечества. («Ленин в Разливе», 1948). Но в душе мечтал «устроить свою жизнь так, чтобы в тишине и уединении насладиться природой и свободой, <…> предаваться любимому делу без помех и поправок невежественных и бесчестных людей» (из письма к жене, Н. А. Пластовой).
Одновременно, по мнению Татьяны Пластовой, в том, как именно шла работа над изображением портрета Сталина в «Празднике урожая», можно распознать «часть грандиозного замысла, своего рода послание художника в будущее»: «На карандашном эскизе 1936 года, легшим в основу композиции и расчерченном схемой перспективы, точка схождения линий перспективы совпадает со странным предметом, назначение которого вряд ли было понятным «тщедушным городским» зрителям. Это разверстое жерло молотилки, словно приготовившееся втянуть в себя ликующую яркую толпу. Молотилка и венчающий ее портрет Сталина написаны холодновато-прозрачными, словно отражающими свет «стальными» красками и колористически противопоставлены общей цветности картины. Особо зловеще выглядит группа мальчиков, непосредственно приближенная к жерлу молотилки, и мальчик, сидящий на ее краю».
В 1956 году Пластову предложили заменить портрет Сталина на картине букетом цветов. Картина уже находилась в экспозиции Русского музея. Художнику предоставлялась возможность задним числом стереть невольную идеологическую кляксу. «Всем известно, что не та правда, что существует с натуралистическим правдоподобием, но что может существовать по логике своего внутреннего бытия в определенных условиях, и я ни в одной вещи не только не пренебрегал этой непререкаемой истиной, но и, напротив, только об этом и думал», — ответ Пластова на полученное предложение. Переписывать работу он отказался.
Как написать смерть
Война застала Аркадия Александровича Пластова в Прислонихе. В 1942–1943 годах он работал над ставшей позже хрестоматийной картиной «Фашист пролетел», той самой, которую Сталин привез на Тегеранскую конференцию.

1942 г., холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея
Эта картина воздействует тишиной. Композиционно полотно четко разделено на два пространственных плана. Каждый план решается в свойственном ему цвете: сочные зеленоватые тона — полные жизни поля озимых — и краски осени, умирания, увядающей природы. Все просто, бесхитростно, лаконично скомпоновано, и в этой простоте без шума, без истерики обнажается катастрофа бессмысленной бойни — внезапно, молниеносно закончилась жизнь этого сельского мальчишки, и этот прекрасный мир будет жить дальше, скоро побледнеет осенний лес, в небе появятся первые снежники-мотыльки, но ничего этого больше не увидеть ребенку, которого просто так, потехи ради, расстрелял пролетающий немецкий летчик.
«Не стыжусь признаться, люблю всё, что вызвано к жизни солнцем, что обласкано его теплым светом, а больше всего люблю людей», — говорил Пластов.
Так пронзительно написать смерть можно, только любя жизнь.
«Каждому листочку радуйся»
В 1946 году Аркадию Пластову присуждают Сталинскую премию I степени за картины «Сенокос» и «Жатва». Сенокос, пожалуй, апофеоз пластовского гимна радости, здесь сплелись все его любимые темы и мотивы: бесконечно дорогой ему крестьянский мир и родная цветущая земля.
Благодаря звучности цвета, обилию теней, рефлексов зритель утопает в звонком многоцветье бесчисленных полевых цветов, в голубизне утреннего свежего воздуха, в напоенных солнечным светом душистых летних травах. Здесь чувствуется импрессионистическая раскованность, свежесть, трепетность живописной ткани, ставшей основой для пластовского художественного языка.

Государственная Третьяковская галерея
Через регулярный ритм передаётся ощущение слаженности, единого порыва работающих людей. Пластов выстраивает композицию, уводя зрительский взгляд в глубину, там синеет лес, золотятся стога сена. И кажется, и этот летний жар, и плодородная цветущая земля, и люди, разгоряченные работой, наполненные потаенной глубинной силой земли, — все это было и сто, и двести лет назад. Пластов выразил какую-то вневременную радость самой жизни, ее простоту, ясность и одновременно наполненность и мудрость.
Сам он признавался, что писал работу, «задыхаясь от счастья», и этот переизбыток счастья чувствуется так остро еще и потому, что написана картина в 1945 году — первое мирное лето после войны: «Я когда писал эту картину, все думал: ну, теперь радуйся, брат, каждому листочку радуйся — смерть кончилась, началась жизнь, сверкание солнца в небе».
Умение почувствовать и сохранить на полотне этот порыв души — «каждому листочку радуйся» — и есть тот главный мотив, то поле, которое очертил Пластов в советской живописи.
Есть художники, чьи работы можно назвать богословием в красках, у Пластова скорее — славословие в красках. Его влечет все отрадное, укоренённое в добротной, щедрой, слаженной жизни. Не то чтобы он не замечал ничего горького и отравленного вокруг, но ему внутренне соприроден свет. Он чувствует радость в простом, житейском, в подчеркнуто бытовых, прозаических сюжетах без всяких мистических туманностей и изломанностей.

ИА REGNUM
«Вот вы много ходили с Аркадием Александровичем по полям, по лесам, о чем вы говорили?» — спросили ученика и друга Пластова, Виктора Киселева. Он ответил: «Радовались. Вместе радовались красоте, окружающей нас». Кажется, его душа вмещала это евангельское да радость Моя в вас пребудет… (Ин 15:11).
Может быть, поэтому в пластовском мире как-то по-домашнему тепло, в нем гармоничная ясность и одновременно таинственность и сила. Сегодня такое ощущение жизни почти забыто, потеряно, если только изредка мелькнет в поэтических строках:
Я люблю этот край подсвешный,
Где на взгорок через луга.
На молебен рядком неспешным,
Как монахи, идут стога…
(Евгений Юшин)

У Пластова оно присутствует почти везде: в тихой задумчивости осеннего вечера («Сентябрьский вечер»), в «Весне на Мирской горе». Крупными цветовыми плоскостями передается живая пластика весенней, пробудившейся земли, ее рельеф, ее бескрайняя протяжённость. Пластов уходит от мощно звучащего колорита и находит изумительные оттенки — нежный дымчато-голубой, сиреневато-фиолетовый, чтобы выразить то тонкое, едва уловимое, что есть в весеннем мире с его таинственностью и поэзией.
Есть это ощущение и в «Деревенской ночи», хотя это камерная вещь. В тишине ночи, в комнате, едва освещенной золотистым светом от керосиновой лампы, на деревянном полу спят люди — отец и ребенок; молодая мать рядом качает колыбель; в углу — икона; ночь бросает в окно лунный свет. В этой тихости, простоте, есть что-то древнее, библейское, словно эти люди спят не в деревенской избе, а в огромном подлунном Божьем мире.

Собрание семьи художника
Человек у Пластова счастлив на этой земле, нет в нем ничего суетного, искаженного, малокровного, нет срывов и надрывов. Вот тракторист после трудового дня ужинает в поле при закатном солнце («Ужин тракториста»); на заднем плане свежевспаханная живая земля; девочка наливает из кувшина парное молоко — мирный семейный круг, и во всем этом естественная простота, отрадное чувство отдыха, покоя, какое бывает после добротно прожитого трудового дня.

Государственная Третьяковская галерея
В картине «Мама» — нежность материнства, молодая женщина кормит грудью младенца, и здесь так сложно составлен белый цвет, создающий сияние, свечение, что при всей реалистичности Пластова напрашиваются отсылки к библейским сюжетам. На заднем фоне композицию венчает горка из нарядных красных подушек — и эти пышные подушки, символизирующие достаток, дополняют общее ощущение ладности, радости и покоя в доме.
И еще чудесная зарисовка зимнего дня в картине «Первый снег»: дети выскочили на крыльцо, девочка едва одета, она радостно подставляет лицо летящим снежинкам, и эта детская радость такая узнаваемая и живая, что каждый вспоминает тот восторг, когда хочется замедлиться, глядя, как первые снежинки укутывают мир.

ИА REGNUM
То, что пишет Пластов, — это не какая-то вымечтанная идиллия, и точно не летопись советской жизни с героическими восклицаниями. Для чьего-то восприятия он останется на уровне бытописания, пусть поэтичного и красивого. А для кого-то в его работах, в которых впрямую нет христианского обрамления, откроется надбудничное, глубокий и мудрый ход жизни, переход в область вневременных бытийных смыслов. И потому так просто и легко в этот его земной уклад входит Небо: «Я сегодня, когда встал после работы, оглянулся вокруг на драгоценнейший бархат и парчу земли, на пылающее звонким золотом небо, на силуэты фиолетовых изб, на всю плащаницу вселенной, вышитую как бы перстами ангелов и серафимов, так опять все с большей убежденностью подумал, что наши иконописцы только в этом пиршестве природы черпали всю нетленную и поистине небесную музыку своих созданий и ничего нам не сделать, если не следовать этими единственными тропами к прекрасному».
Огонь и свет
Живая любовь к церкви проходила через всю жизнь Пластова. В его роду священники, церковные архитекторы и строители, иконописцы. Отец в качестве подмастерья помогал расписывать храмы и служил псаломщиком в прислонихинской церкви, которую построил и расписал дед художника. Сама семейная стезя неуклонно вела Аркадия Пластова в церковную жизнь. Его даже отдали в Симбирское духовное училище — была такая семейная мечта, что он станет архиереем. Но пятнадцатилетним мальчишкой он увидел, как работают приехавшие к ним в село реставраторы-иконописцы, тогда и пришло отчетливое решение: буду живописцем и никем больше. Духовное училище он все же окончил, а потом с последнего курса семинарии «полетел за жар-птицей искусства в Москву». Сначала два года отучился в Строгановке, а затем поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на скульптурное отделение.

1950-е гг., бумага, гуашь.
Собрание семьи художника
Даже в советское время каждую неделю Пластов бывал в храме, ездил в Богоявленский собор в Елохове, бывал во Всехсвятской церкви на Соколе, в храме в Путинках. Он хорошо знал службу, молился сердцем: «Запели пасхальный Канон... Я стоял и чуть не плакал, ты поймешь, какое было невыразимое от этого на душе чувство печали и радости. Больше, конечно, печали, т. к. этот торопливый перекат, бесконечную ласковость, ангельское веселье, весеннюю голубизну и светозарность этих стихир просто нельзя было даже с усилием воспринять, как что-то реальное, осязаемое, что взял бы и унес с собой. Все казалось сном, неявью…»


РИА Новости



Именно светозарность, светоносность, огненность — главные живописные черты его акварелей на церковную тему: «Сергиев Посад. В трапезной», «В Успенском соборе», «Куличи», «Зимний праздник. Никола». Его колористические решения в этих акварелях завораживают: пылающий красный, оранжевый, багряный, звонкое золото разлились во всю силу в изображениях церковных праздников и служб. Золотые, охристые рефлексы от горящих свечей падают на лица прихожан в «Венчании»; горящий оранжево-красный в облачении священников («Сергеев Посад. В трапезной»); бело-золотистое полыхание бесчисленных свечей в огромном подсвечнике, который Пластов сделал композиционным центром картины («Зимний праздник. Никола»); на сияющем иконостасе с его ликующими золотисто-охряными, красными тонами вспыхивают светлые и охристые блики, однородные темные пятна толпы прихожан контрастно подчеркивают сверкающее убранство иконостаса («В Успенском соборе»). Пластов пишет в импрессионистической манере, с большой экспрессией, объединяя огненные краски в единый аккорд, и в нем открывается символика внутреннего света церковных таинств, молитвенного горения и света несотворенного.

Акварели писались в 1950-е годы, очевидно, что никто их не видел, кроме узкого круга семьи и друзей, но эти работы — свидетельство того, чем на самом деле жила его душа, насколько глубоко он чувствовал ту мистическую радость и глубину, которая открывалась ему на службе. «Я любил, — вспоминал сын Аркадия Александровича, — приходя в церковь позднее его, отыскивать его седой затылок, широкие плечи над серым же, волчьего цвета, пальто. Простота и сила шла от всей его стати, от серьезного достоинства предстояния».
Однако есть у Пластова одна поздняя картина, в которой изображена совсем другая церковь.
«Апрель»: украденная Пасха
Работа «Апрель» написана уже в 1965 году, и в ней очень сложное эмоциональное звучание. Весной 1936 года родную церковь Богоявления в Прислонихе закрыли. Священника арестовали, иконами мостили дорогу на ферму, из церкви сделали амбар — таким образом из сознания крестьян старательно выбивали «религиозный дурман».

Частное собрание
Для Пластова разрушение храма — это крушение не только самих основ жизни, это еще и слом семейной истории: уже упоминалось, что дед его был архитектором этой церкви, отец служил в ней псаломщиком, сестра — просфорницей, самого Аркадия крестили здесь в детстве. Какое-то время после закрытия храм еще стоял в селе с заколоченными окнами. С приходом к власти Никиты Хрущева в 1953 году в стране началась новая мощная антирелигиозная кампания, с прислонихинской церкви снесли церковный купол, и здание окончательно приспособили для хозяйственных нужд.
Пластов пользовался в селе абсолютным авторитетом, был самым образованным среди односельчан, по воспоминанию друга, Виктора Киселева, «он был ядром села». В послереволюционные годы его избрали секретарем Комитета бедноты и секретарем сельсовета. К середине 1950-х Пластов уже получил звание народный художник РСФСР, ему была присуждена Сталинская премия I степени, но никакие звания и заслуги не помогли спасти церковь. «Этого горя отцу хватило на весь остаток жизни», — впоследствии вспоминал сын Пластова, Николай.
Никаких высоких трагедийных нот, казалось бы, в «Апреле» нет. Вход в картину — в левой нижней части, взгляд зрителя схватывает отдельно стоящую маленькую фигурку девочки, она держит в руке ветку сломанной вербы. Далее взгляд продолжает свое восхождение по диагональной оси — в центре композиции сельские девчонки в ярких, уже весенних платьях водят хоровод. При всей ожидаемой радостности, легкости подобного сюжета, нет в этой работе звонкого, мажорного звучания, нет привычного пластовского избытка счастья. Напротив, асимметричность композиции, отъединенность детской фигуры вносит настроение еще неосознанного напряжения, грусти.

Отрывистый, рваный ритм срубленных деревьев визуально усиливает это напряжение. Полотно бурой высохшей прошлогодней травы с вкраплением мертвой желтизны и приглушенной зелени, неясные однотонные пятна темнеющих вдали домов, бледное небо — весь колорит отражает какую-то общую сырость, оголенность, неприютность.
Почти в половине пластовских пейзажей солнечно. Казалось бы, хоровод — народный танец, издревле славящий солнце, но в «Апреле» изображены первые сумерки и меркнущее небо. На фоне этого пейзажа каким-то ужатым, неубедительным, лишенным размаха кажется и само это детское веселье.
Такой ход построения композиции не случаен. Смысловая доминанта картины не в хороводе, не в этих детских играх. На заднем плане массивом серого — разрушенная церковь с забитыми окнами. Вершина храма обрезана верхним краем полотна, будто обезглавлена, как была в свое время обезглавлена и церковь в Прислонихе.
«Пластов как художник всегда видел в детях будущее. <…> Кажется, что в этой картине будущего для художника нет», — отмечает Татьяна Пластова. Да, действительно, в картине ощущается тревога за этих веселящихся детей. Они выросли на этой земле, не зная пасхального ликования под торжественный благовест, не искали они Вифлеемскую звезду в рождественском сказочном небе, не видели, как теплится лампада в храме перед древними родными иконами.
Советская власть успешно претворяла в жизнь проект формирования нового человека. Детство без корней, без традиции, без памяти. А на картине Пластова — апрель, близится Вербное воскресенье, а потом и Пасха. Стоящая отдельно девочка со сломанной веткой вербы, и срубленные деревья, и обезглавленная церковь — во всем этом подспудно ощущается боль от разоренной жизни, от утраты чего-то главного, коренного в ней.
***
В судьбе Пластова хватало трудностей и бед — в 1931 году страшный пожар в Прислонихе уничтожил все, что он написал к тому времени, все, по его словам, «прошло дымом в знойное небо». Вскоре после пожара он заболел тифом. Почти умирал, жена уже шила погребальные одежды. После всех потрясений восстановился, но его творческий путь был далеко не простым. Прежде чем заявить о себе как о серьезном художнике, ему десять лет пришлось перебиваться заказными работами — иллюстрировать книги, рисовать сельскохозяйственные плакаты, писать все эти бодрые агитационные призывы: «Чтоб твои поля родные дали крупный урожай» — поток шаблонной по форме, незатейливой по содержанию работы без всякого эстетического удовлетворения. Первое время в Москве он жил бедно, безбытно. Его друг, художник Виктор Киселев, вспоминал, как они снимали квартиру в Немчиновке одну на двоих: «Комнаты отапливались плохо, было очень холодно... На окнах было в два пальца льда, и руки от холода коченели и опухали… Места в комнате было мало, и холст Аркадий Александрович ставил на кровать. Спали на одной койке». Мастерскую Пластов получит только в 1940 году.

ИА REGNUM
Но в конце концов все добротно встало на свои места. Он вписался: академик, народный художник СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премий, награжденный многочисленными орденами и медалями. И все-таки, несмотря на этот внушительный победный список, его творчество стоит отдельно от так называемой «мировоззренческой проблематики эпохи».
Во всех его «Колхозных базарах» и «Ужинах трактористов» не слышится фальшивой ноты, да и сам Пластов очевидно не из породы чутких к социальному заказу придворных мельтешащих живописцев. И никакие этикетки «соцреализма» к нему неприложимы. Он занимался совсем другим делом и при каждом удобном случае бежал из Москвы, от всей этой казенной эстетики подальше, в родную Прислониху. В 1952 году Пластов получил звание народного художника СССР, и, пожалуй, именно это звание в полной мере охватывает и оправдывает все, что он сделал.

Средина 1960-х гг., холст, масло.
Собрание семьи художника
Сегодня, находясь в пластовском зале Третьяковкой галереи, задумываешься: каков все-таки был его главный посыл зрителю? Особенно в сравнении с нынешними постмодернистскими творцами, усмешливо взрывающими пласты традиционных эстетических канонов. И среди их разброда, петляния, разлада, ухмылок и усмешек — добродушных и не очень — как-то ностальгически чисто и цельно звучит пластовский голос из минувшего века: «Надо, чтобы человек непреходящую, невероятную красоту мира чувствовал ежечасно, ежеминутно. И когда поймет он эту удивительность, громоподобность бытия, — на все его тогда хватит: и на подвиг в работе, и на защиту Отечества, на любовь к детям, к человечеству всему. Вот для этого и существует живопись». Для этого он и писал.
Письма Аркадия Пластова и комментарии искусствоведа Татьяны Пластовой цитируются по книге «Аркадий Пластов. От этюда к картине. Статьи, воспоминания, материалы» (Автор — Татьяна Пластова. Издательство «Кучково поле», 2018).