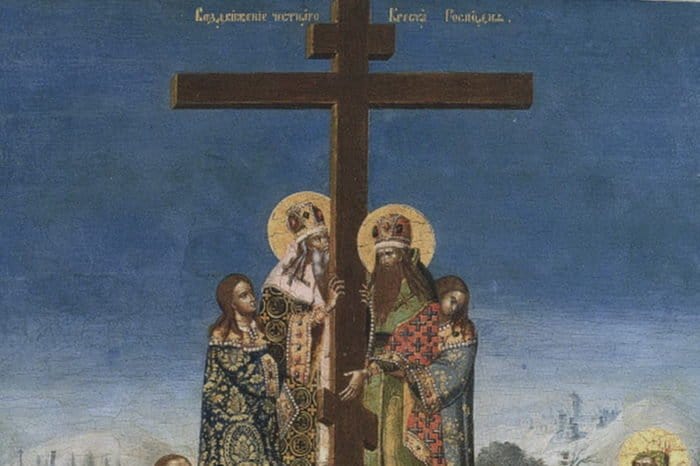(Окончание. Начало см. "Фома" №11(43) и №12 (44), 2006 г.)
Даже светская столица Афона город Кариес имеет тут лицо особенное, не сравнимое ни с одним городом мира. Не суета и легкомыслие, а спокойствие и некоторая задумчивость составляют его выражение, словно он населен, кроме людей, еще кем-то невидимым и оттого есть в нём некий свой внутренний смысл.Афонские дороги
Вышли из монастыря мы утром, после трапезы, предварительно узнав, как идти на Кариес, административный центр Афона и его единственный светский город.
– А вот видишь дорогу, – сказали мне, – вот всё по ней и… придешь.
Замечу, походя, что путешествуют по Афону только паломники, а монахи лишь в крайнем хозяйственном случае, как-то: если они водители или, к примеру, рыбаки. Очень сильно выглядит, когда видишь джип, который с ревом ведет в гору монах в мантии и клобуке, заглядишься на него, он улыбнется и по-шоферски лихо махнет рукой и даст газу. Еще живописнее монах на моторке – борода развевается, он закладывает крутой вираж и уходит за мыс, где у него стоят сети. Но это исключение, мир братии ограничен стенами монастыря.
– А сколько до Кариеса пешком? – спросил отец К., узнав, что мы ходили туда. Сам он живет в монастыре давно, но, видать, прогулок таких не совершал.
Оттого все движения внутри стен обители приобретают особую значимость для его насельников. Любые траектории нарочито осмысленны и оттого особо солидны. Эта жизнь в геометрии монастыря становится для монахов настолько внутренне значимой, что любое передвижение есть смысл особый, внутренне обретенный. Так движение физическое становится согласованным с движением духовным, которое в монастыре тоже есть траектория: из одного храма – в другой, от одной святыне – к следующей, по своему личному нравственному маршруту.
Слепой так осваивает пространство окрест себя. Пусть и ходит недалеко, зато обретает уверенность в “нравственной ощупи”. И знает ее наизусть.
Дорога из монастыря в Кариес шла сначала ровно, но за поворотом неожиданно круто поползла вверх и скрылась за кручей. Мы, кряхтя и тяжело переваливаясь, поползли вверх за нею. Я почему-то был уверен, что за кручей подъем кончится – не тут-то было! Он взметнулся еще круче, бетон кончился, и вверх нескончаемым трактом натужно поползла грунтовая дорога с примесью щебня и песка. Через пятнадцать минут знакомства с нею я почувствовал, что задыхаюсь. Слава тащился сзади, пыхтел, но не переставал восторгаться чем ни попадя:
– Ой, смотри, смотри скорее! – взывал он, но я, зная, что сейчас попаду на какой-то кустик или пейзаж, не оборачивался, экономя силы. Сзади слышалось:
– Ох, какая красота, ты только посмотри, это невероятно, какое море!... а как, интересно, это дерево называется, надо листик сорвать, потом спросим… или веточку, нет веточку не буду, жалко, нет, ну какая красота!…
При этом он шел сначала носом вперед, потом постепенно нос, а с ним и вся голова, выворачивался в сторону “красоты”, затем разворачивался весь корпус, и он продолжал идти задом наперед. При этом он продолжал восторгаться, являя мне свою кучерявую шевелюру. На что я говорил:
– Глазами вперед, вперед глазами иди, – и он нехотя делал разворот на 180 градусов.
Я постепенно уходил вперед и стоял, поджидая его на очередном повороте. Вдруг я услыхал Славин голос, явно обращенный не к фиалке. Из-за поворота показался совсем старенький монах в ветхой мантии и больших стоптанных башмаках, и рядом с ним Слава, который выспрашивал “а правильно ли мы идем и сколько километров до Кариеса и сколько часов еще идти и…”.
Старичок помотал головой, показывая отсутствие желания говорить, и только указал вверх по дороге и махнул туда рукой, подтверждая, что идем верно. Я понял так, что это один из иноков, которые предпочитают с мирянами не общаться.
Но на его беду выше по дороге стоял я и курил.
Монах, завидев меня, сразу стал разговорчивым. Не буду передавать всего сказанного им в мой адрес, только я сразу стал тушить сигарету, чем не смягчил его сердце. Он твердо зашагал дальше, отрываясь от нас медленно, но верно.
Меж тем вокруг действительно была красота – горы, густо заросшие кустарником, голубое небо, тихое море внизу, под нами, и монастырские купола сзади. Но красота эта как-то не радовала, поскольку шли мы уже в тупом равнодушии от усталости и непривычки к горным походам. И в этот момент сзади показался “пикап” с местными греками. Он затормозил возле нас, из окна высунулась рука и махнула нам, мол, лезьте в кузов.
Натужно взревев, пикап ринулся вперед, мы стояли в кузове, держась за передний борт, и ветер летел нам в лицо. Скоро мы догнали монаха, который взмахнул рукой, как-то по детски улыбнулся мне и исчез внизу.
Греки высадили нас у небольшой кошары, где паслись козы и несколько черных мулов, а недалеко, в распадке между кряжами гор стоял Старый Руссик, монастырь, которому девятьсот лет и где ранее жила вся русская монастырская братия, а теперь осталось только четыре монаха, для поддержания жизни в этой опустевшей обители. Сам Пантелеймонов монастырь два века назад переселился вниз, к морю, для удобства хозяйственной деятельности.
От этого места идти стало легче, поскольку мы уже поднялись на основную высоту и шли ловчее, оглядывая афонские просторы и вдыхая чистый, медовый воздух гор.
Но тут встала новая проблема – дорога стала раздваиваться, причем одна уходила вниз, а другая – вверх. Если пойти по той, что вниз, и ошибиться – невыносимо противно будет потом возвращаться вверх. А по той, что на развилке ползет вверх – сейчас идти не хочется. Указателей нет.
И в этот момент вдруг появляется какой-то грек с ружьем и тут же старательно объясняет нам, где Кариес, и еще что-то говорит, но – увы, кроме “эвхаристо”, ответить нам нечем. Дорога разветвлялась еще не раз, и на каждый случай появлялся невесть откуда случайный человек и говорил нам, куда сворачивать. Мало того, когда мы пошли было по одной дороге, но увидели завал и решили, что ошиблись, да уже повернули было обратно, опять возникли двое путников, чтобы сказать нам, что идем мы правильно.
Если бы не все эти встречи, плутать бы нам по афонским горам до ночи, а так, явно ведомые, мы скоро вышли на трассу уже по ту сторону горной цепи и, снова увидав море внизу, направились по хорошей серпантинистой дороге на Кариес. По этой дороге, кстати, месяцем раньше президент Путин ехал на джипе в монастырь Ватопед, где главная святыня – пояс Богородицы.
Так вот Путин ехал, а за ним невесть отчего, во всю мочь бежал мул. И туда, и обратно. Правда, обратно ему было в гору и он на полдороге скис, но вот чего он носился за президентом, того никто понять так и не смог. Это, кстати, тот самый мул, что прибился к нашему монастырю и был предметом хлопот братии.
Мы ни за кем гоняться не стали, и через час, порядком измочаленные, оказались в столице Афона – городе Кариес, единственном во всей земле афонской.
Столичная жизнь
Город, конечно, сильно сказано – поселок с несколькими улочками, мощенными древним камнем, застроенный двухэтажными альпийскими домиками. На первом этаже – лавки, на втором – жилые квартиры с балкончиками. Зато, кроме иконных лавок, настоящие “минимаркеты” – с едой, консервами, пивом и чем покрепче. То, что крепче, стоит в глубине, стыдливо укрываясь от Божьего света и глаз трезвых монахов. Отдельно пекарня, откуда шел теплый хлебный дух, аптека, почта, полицейский участок и здание Афонского правительства с внушительными табличками и флагом Православного государства.
Тут же, напротив, несколько таверн, где сидел пестрый паломничий народ, галдел на разных языках, среди которых я явственно различил:
– Слышь, горчицу спроси там, есть у них горчица-то?
Тут уже подавали и мясо, и жареного цыпленка, свежую рыбу, вино, пиво, греческую водку – все как полагается в средиземноморских кабаках. Народ, впрочем, не гулял, как-то здесь к излишествам не тянет.
Я спросил, где туалет, и некоторое время изучал его двери, силясь понять, где тут “М”, а где “Ж”. Тут только до меня дошло, в первый раз за несколько дней, что никаких “Ж” тут нет в помине, и я поразился этому открытию. Отсутствие слабого пола совершенно не чувствуется, нет никаких признаков мужского общежития, всё чисто, прибрано и идет своим чередом. Нет, я постоянно молился за жену, дочку и других родственных и знакомых мне дам, но вот для глаза отсутствие женщин было совершенно незаметно и естественно.
Выйдя из таверны, мы наткнулись на монаха с настолько русским и открытым лицом, что ошибиться было невозможно. Слава тут же вопросил его о чем-то на родном языке, и тот так же просто стал отвечать.
Он сказал, что на паром мы уже не успели, а следующий будет только завтра, что гостиниц тут нет, а есть только окрест монастыри, где нас могут поселить на ночь беспременно, но что он сам тут внове и лучше расспросить кого из местных. На том мы и расстались, и я пошел по лавкам, спрашивая торговцев “Do you speak Russian?”, на что они мотали головой, ибо не токмо русского, но и никакого иного, кроме своего греческого, не ведали. В одной лавке я унюхал сладковатый запах из коробочек и спросил:
– What is it?
На что грек долго что-то лопотал.
– Can I eat it? Is it sweet? – спросил я, и тот стал повторять “Еat, eat”.
Я открыл коробочку, в которой оказался ладан.
– Нешто я тебе кадило, чтоб ладан есть? – спросил я, и тот закивал – “Кадило, кадило”.
Наконец в одной лавке на традиционный вопрос юноша ответил:
– Да, конечно, говорю, – он оказался из Москвы, но сейчас живет в Греции и приезжает сюда подработать (таких, кстати, на Афоне немало). Он сказал, что есть монастырь Кутлумуш, в десяти минутах ходьбы, есть бывший русский Андреевский скит, там сейчас греки, но паломников тоже принимают, есть еще Каракал – вниз к морю, есть Буразидис, есть…
Но мы решили идти пусть в бывший, но русский монастырь, и распрощались с ним, а он остался продавать афонские посохи для паломников и прочий церковный товар.
Странная земля – Афон, истинно нет в ней ни эллина, ни иудея. Попутчиком нашим до скита оказался средних лет дородный… француз, бывший при этом православным монахом, солидный мужчина с окладистой бородой. Я тут вспомнил, что юноша с вытянутым лицом, который потчевал нас в Пантелеймоновом по прибытии водкой, оказался монахом-датчанином, в чем признался сам, т.к. плохо понимал, о чем я его как-то спрашивал.
Православный француз предложил нам следовать за ним, поскольку он сам идет в Ахеонтрию (так теперь зовется Андреевский скит), и действительно довел нас до архандарика скита, где пожелал Божьей помощи (по-английски, что для француза почти подвиг). Мы поднялись по лестнице в “guest room» и попали там в общество худого монаха-грека в очках, который принял нас так радостно, словно не видел много лет. В ответ на мою просьбу приютить на одну ночь он даже несколько удивился, будто мы могли прийти за чем-то другим:
– Of course, no problem, please, just a moment… – и он убежал пристраивать ранее пришедшую группу паломников-греков. Мы выпили холодной воды и съели по кусочку рахат-лукума, и уставший после горных троп Слава задремал, свесив голову на грудь, а я стал разглядывать на стенах фотографии русских старцев, когда-то составлявших духовную славу скита. Но монах прибежал скоро и, увидев поникшую головушку Славы, засмеялся и громко пропел по-русски:
– Па-адъем!
Слава в ужасе выпучил глаза, решив с устатку, что снова оказался в армии.
Нам отвели келью на четверых, в компании с капитанами греческой армии, о чем они сами гордо сообщили. Это, впрочем, не помешало им наутро проспать всю Литургию и прийти только к самому ее концу, может, оттого, что у греков утром будят, стуча палкой о палку, что после нашего Пантелеймонова трезвона слышится колыбельной песней.
Сам скит представляет собой величественный архитектурный ансамбль, когда-то здесь процветала русская монастырская жизнь, но с начала XX века стала угасать, притока из России новых монахов не было, а в 1971 году умер последний русский старец. В 1992 году скит заняли греки, и началась его новая жизнь, чему мы стали случайными свидетелями, но старый русский быт до сих пор выглядывает изо всех щелей. В длинных коридорах общежительного корпуса всё как было, когда умер последний монах старой русской братии отец Сампсон. Вдруг надпись над дверью “Аптека”, в кельях старые бумажные иконы с русскими буквами, свалена какая-то рухлядь, везде разруха, но уже греки начинают ремонт, и скоро мало что останется от следов былой жизни.
Ранним утром, когда мы шли на Литургию, я задержался в палисаднике, разбитом еще нашими сто пятьдесят лет назад. Там устроены скамейки и вид оттуда открывается прямо на Святую Гору. Была еще ночь, но горизонт уже начал розоветь. Позже я вышел снова, сел на лавочку и полчаса смотрел на восход солнца над Афоном. Из храма доносилось пение греческой службы, а здесь шла своя особая Литургия, безмолвная, но полная внутренней силы и смысла.
После трапезы мы приложились к главной святыне скита – святой главе Апостола Андрея Первозванного – и пошли обратно в Кариес, где сели на автобус и поехали в Дафни, порт, откуда идет паром по морю. Дорога шла серпантином, причем довольно крутым и залихватским. В иных местах я бы ощутил неприятное чувство, особенно когда колеса, кажется, нависают над бездной. Но тут как-то всё спокойно внутри, и сидишь, любуешься видом склонов, морем внизу и горой Афон в лучах утреннего солнца, и только следишь, как мелкая точка порта постепенно становится крупнее. В Дафни в таверне сидела та же публика из монахов, паломников, работяг и расфранченных западных туристов. Там я с забытым удовольствием выпил бутылку пива рядом с полным греческим монахом, который сидел и цедил большую кружку пива, которую, приподняв, показал мне, в знак пожелания всех благ, на что я ответил тем же.
Мы взошли на паром, и через четверть часа ходу он уже подваливал к пристани столь милого сердцу Пантелеймонова монастыря. Мы были дома, но и его вынуждены были покинуть очень скоро.
Утром, в день отъезда, нас пошел провожать отец В., он оставался в обители после нас еще на три дня. Мы говорили с ним о чем-то, и вдруг отец В., глянув вверх, мне за спину, сказал, без особого, впрочем, удивления:
– Ой, смотри, Христос!
Я обернулся и увидел, как в чистом небе два самолета пересеклись курсами и оставили за собой белые линии, образовавшие в треть небосклона правильную букву “Х”. Все порадовались, но как-то спокойно – на Афоне еще и не такое в порядке вещей.
Олива святого Пантелеймона
Днем ранее, когда отец К. показывал нам свои садоводческие труды, раскиданные по монастырю, он неожиданно подвел нас к одной разросшейся оливе, цветущей нежной завязью сбоку от “нижнего” храма, в особой клумбе. Эту оливу обрамляли цветы, небольшие аккуратные кустики, низкая свежеокрашенная ограда, и вся её красота всячески подчеркивалась окружающим вниманием.
– А что это за дерево? – спросил кто-то из нас, и отец К. внушительно сказал:
– Как, то-есть? Так это та самая олива и есть!
Из его дальнейших слов мы узнали, что, когда из отсеченной честной главы св. Пантелеймона полилось молоко вместо крови, на месте том выросло деревце оливы, а потом от ее ветви отломил один христианин отросток и посадил на этом самом месте, около которого сейчас стоим мы. Олива принялась, и теперь это большое сильное дерево, почитаемое ничуть не менее, чем сами мощи св. Пантелеймона.
– И вот однажды, – говорил отец К., и голос его дрожал, – смотрю, а стоит у святого дерева человек и веточку отламывает. Я ему говорю: “Ты что же делаешь, святое дерево ломаешь?!” Как же потом оно болело! С того самого боку, где он его обломал. Я уж его и лечил, и ночей сам не спал, вот только недавно опять со всех сторон принялось, слава Богу, опять растет и цветет. Милость Божья!
Мы стояли и смотрели на оливу, ветви которой уже были в завязи, еще несколько времени, и расцветут на ней нежные цветы. И рядом с нами стоял отец К., но смотрел на эту оливу без нашего стороннего вдохновения, а внимательно, как садовник, который еще и врач человеков. Но он смотрел на нее еще и с той любовью, которая заставляет цвести и оливу, и души людские, и их надежды, которыми, как и верой, живет любая Божья тварь на этой прекрасной планете.
***
За недолгое время даже такие слабые христиане, как мы, настолько вросли в жизнь монастыря, настолько казались сами себе уже здесь не гостями, а полноправными членами, что расставание стало тяжелее, чем мы ожидали. Всё казалось, вот братия по делам идут – а мы уже знали, какие это дела и заботы, – а мы тут сидим на пристани, паром ждем, словно дезертиры. Сейчас бы работать надо в саду, у отца К., там работы еще невпроворот, да и урожай скоро поспеет – мы и не увидим. Или на стройке цемент надо замешивать да стропила пилить.
А кто у отца Я. будет швеллера красить? Опять, поди, все новые паломники по святым местам разбегутся, тут им святости мало… Да, а как же мы на повечерие-то сегодня не попадем? Без нас отслужат. Нехорошо.
Вон отец К. – на верхней террасе, с пирса его видать. Озабоченно идет меж своих детей – фруктовых деревьев. А вон и тот старец, что повстречался нам по пути в Кариес, – бредет после Литургии по дороге вверх в гору, на фоне голубого неба, и немного справа, сквозь зелень – купола с крестами Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря.
Октябрь 2005 г.