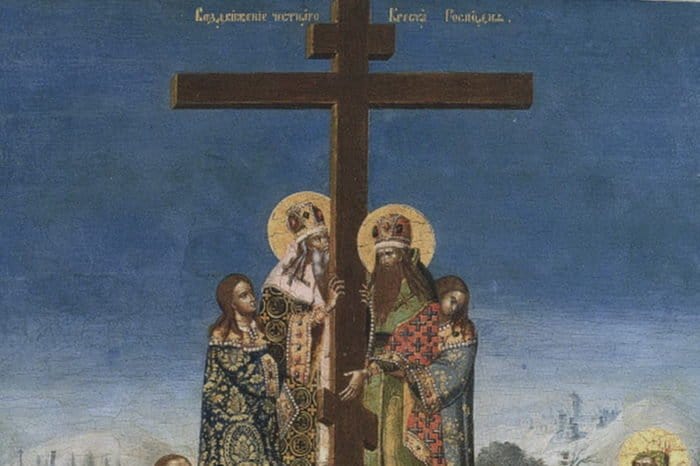Знаете, есть такие обрывки памяти – из детства, о которых ежели и в зрелом возрасте подумаешь – пахнёт чем-то далеким и родным, когда и душа была живее и мир лучше. Такими для меня были фразы, которые чем-то манили, когда был еще ребенком – “Новый Иерусалим”, “Новый Афон”. Почему “Новый”? Значит, где-то есть и “Старый”?
И протяжная песня, которую пела бабушка тонким чистым голосом: “Гора Афон, гора святая; Не знаю я твоих красот…”. Какие же слова там дальше? Всё стерла жизнь. Но не сумела она стереть чувство таинственного и светлого в охладевшем сердце. Стремление даже не посетить, а будто бы вернуться к тому, что утерял, крепло и утверждалось.
И Иерусалим и Афон – истоки жизни православной, как Россия – её устье. Вероятно, хоть раз в жизни подняться вверх по течению необходимо для духовной жизни человека.
Оттого и мы, два москвича средних лет, по милости Божьей и Пресвятой Богородицы, собрались на Святую Гору Афон, совершенно не предполагая, по молодости годов духовных, что нас там ожидает.
Дорога на Афон
Многие довольно читали об Афоне, о его святынях и монастырях. Всё же я полез в интернет, чтобы узнать о сегодняшних общежительных правилах монастырской афонской жизни, в частности, в св. Пантелеймоновом монастыре, куда мы с моим другом Вячеславом собирались.
Для начала я узнал, что купаться в море на Афоне запрещено под страхом выдворения, если тебя в воде поймает местная полиция. Это при том, что монастырь от этого самого моря отделяет 25 метров.
Затем я узнал, что службы там идут по четыре часа, а начинаются в три часа ночи, а кормят два раза в день, причем рыбу видят только по большим праздникам, а о мясном и старики не помнят. Не то, чтобы я путал Афон с Анталией, но за свои 700 долларов все же надеялся попасть в какие-то более привычные условия.
Было от чего задуматься расслабленному духовно москвичу, который еле успевает к поздней Литургии, да еле выстаивает полтора часа и последние сорок минут больше следит не за службой, а за тем, как бы не вертеть головой и не почесываться. Да привык трапезничать три раза в день, не считая чаев да перекусов, и вкушать так плотно, чтобы упражнять после еды мышцы рук, помогая заду отделиться от стула.
– Не переживай – сказал мне бывалый человек – за камни зайдешь, налево от пристани и купайся, туда и паломники и рабочие местные ходят. Хочешь спать – и спи, никто слова не скажет, не тюрьма ведь.
Для того чтобы попасть на Афон, надо в своем приходском храме взять рекомендацию – благословение от священника на бланке храма и с печатью, о чем я и сказал о. Александру.
– Ишь ты! – сказал он – ну, с Богом, езжай, коли такой храбрый, – и дал благословение.
Затем надо было пройти собеседование с представителем Афонского подворья в Москве, который должен решить, внушаем ли мы ему доверие. Этим собеседованием мы были несколько озадачены – вдруг он будет нас экзаменовать из истории Православия или допытываться, что читается в таком-то месте Литургии Василия Великого? Но представитель только посмотрел на наши бородатые, в меру испитые физиономии и сказал:
– Ишь ты, каких паломников Бог послал! – и дал добро.
В аэропорту таможенник тщательно обшаривал всех отлетающих и, обнимая нас, весело сказал:
– Ишь, какие богатыри в России не переводятся! И не обхватишь! – впрочем, это более относилось к нашей талии, нежели к груди.
В самолете мы попали в шумную бизнес-компанию, которая летела на какой-то рекламный семинар. Они весь полет толкались в проходе и лакали виски. Скоро к нам прилипла коротконогая блондинка и, выяснив, куда мы летим, сообщила, что недавно крещена в Болгарии, а потом ее отчитывали в Египте, а скоро она полетит в Таиланд для окончательного духовного просветления.
– Н-да… – сказали мы, а меж тем самолет натужно приземлился в Салониках.
При выходе их аэропорта “Македония” всех афонских паломников отделяли от общей толпы и отводили в сторонку. Постепенно набралось шестнадцать бородатых мужиков, оглядев которых, один из нас сказал:
– Афониты в сборе.
Подъехали два микроавтобуса и нас рассадили, причем водители просили сесть впереди худых, чтобы не мешали рулить своим дородством.
– Где вы видите худых, здесь одни православные – ответили им.
Мы ехали по Македонии, которая несколько напоминает Крым, но более цивильный и ухоженный, погода стояла отменная, градусов двадцать, ясное небо и свежий, по здешним меркам осенний ветерок, из-за которого греки уже надели теплые фуфайки и пиджаки. Городки с белыми домиками и красными черепичными крышами просты и скромны, земля вся поделена и огорожена проволокой, лесов нет, только вдали поросшие кустарником горы.
Вдруг сзади в салоне кто-то из “афонитов”, пытаясь разобраться в незнакомой валюте, рассыпал мелочь и тут же раздался комментарий:
– О! Батюшка по швам треснул…
Все развеселились, а больше всех сам батюшка, который утирал слезы и повторял:
– Ох, Господи, искушение…
Меж тем мы заехали на ночевку в сонный курортный городишко Геракилис, во вполне приличный отель и вечером искупались в море, единственные, поскольку грекам вода в 18 градусов уже холодна, а мы плескались и фыркали бородатыми и счастливыми тюленями.
На следующий день рано утром нас опять посадили в автобусы и повезли уже в Уранополис, откуда идут паромы до Афона, с которым сообщение только морем, а автомобильных дорог через горы нет.
В небольшом порту Уранополиса расположилась контора администрации Афона, который считается монашеским государством, хотя по юрисдикции и входит в Грецию. Здесь выдавали официальные разрешения на посещение Афона, на красивом бланке, с круглой большой печатью с изображением Богородицы – Покровительницы этой земли. Там были еще написаны мои имя и фамилия, то, что я и что я еду в , а сам документ назывался и выглядел очень внушительно.
Паром подошел к пирсу, открыл нижнюю челюсть и положил ее на пирс, куда тут же съехали грузовики и сошел народ, а мы – поднялись на борт, на верхнюю палубу. Нас сразу взял в свои объятия свежий и сладкий морской ветер, паром закрыл пасть, развернулся и пошел на Афон.
Справа было море, а слева уже начиналась афонская земля, куда новички вглядывались с нетерпеливым любопытством. Вначале тянулись пологие горы, постепенно они становились выше и всё круче. Через полчаса показался первый монастырь, греческий, каковых здесь большинство – 17 из 20-ти (еще есть болгарский, сербский и наш – русский).
Паром снова открыл пасть, выпустил на пирс нескольких человек и пошел дальше. По склонам гор кое-где виднелись кельи одиноких монахов, близ обители, на отвоеванных у гор земляных террасах, устроены фруктовые и оливковые сады. Здешние монастыри воздвигнуты из камня серого цвета и выглядят мощными крепостями с высокими неприступными стенами, что в прежние времена было весьма актуально по причине пиратов, которые очень любили посещать эти места, но безо всякого смирения.
– Нет, с нашим Пантелеймоном тут никто не сравнится – сказал рядом со мной паломник, уже бывший на Афоне ранее.
– А в чем разница? – спросил я.
– Увидишь!
Между тем уже показалась сама Святая гора Афон, она величаво возвышалась над всеми остальными и к вершине ее прилепились несколько белых тучек. Все смотрели на нее, но фотографировать не получалось – солнце было против.
– Смотри, смотри – вдруг сказал мой попутчик. Из-за мыса появился Свято-Пантелеймонов монастырь и действительно – по красоте церквей и куполов, общей стати и торжественности архитектуры он был краше всех остальных, виденных по пути ранее.
Мы сошли на пристань и я впервые, по милости Пресвятой Богородицы, ступил на афонскую землю.
Жизнь начинается
На пристани многие вставали на колени и кланялись Святой земле.
Мы с другом рассеянно озирались, ожидая какой-то встречи и полагая себя пока еще туристами. Бывалые афониты (наши попутчики по дороге) тут же куда-то бодро направились с сумками. На мой вопрос, они загадочно ответили:
– В архандарики. Давай, не отставай.
Я молча пошел за ними, подозревая в архандариках каких-то людей, причем не факт, что благожелательных. Мы шли вдоль громадного каменного корпуса, который на две трети был представлен одними стенами с чистым воздухом внутри и без крыши, а на треть оказался жилым и был тем самым архандариком, т.е. просто гостиницей для паломников. Там нас встретил старший архандаричий, о. К., молодой человек в очках, улыбнулся и сказал:
– Прибыли, ну и слава Богу, – и рассадил нас в небольшой комнате со столами и скамьями. Тут же другой худой юноша-монах с вытянутым лицом вынес поднос с рюмками и стаканами. В рюмках была водка, в стаканах – вода. Тут же в тарелке лежал рахат-лукум. Позже я выяснил, что таким образом принято встречать гостей во всех монастырях Афона. Мы выпили водки (несколько рюмок, впрочем, остались нетронутыми, я покосился было на них, но и только), закусили лукумом и запили его водой, после чего нас принял на руки о. Ф. и повел по кельям расселяться.
Я почему-то решил, что слово “келья” имеет, так сказать, условное значение и поэтому, когда о. Ф. открыл дверь, я от неожиданности вытаращил глаза. Комната с крашенными белой краской стенами и потолком имела размеры 4 х 2.5 метра, две жесткие кровати, тумбочку и стол со стулом. Камеры арестованных декабристов в равелине, сколь я помнил, были просторнее. Окно, правда, выходило на море, кроме которого ничего из окна видно и не было. На стене висели иконы. Ни ванной, ни туалета нет и в помине. Я решил сфотографировать этот люкс и для лучшей панорамы выпятился в коридор, держа свой цифровик впереди.
– Это что это, милый, ты задумал? – раздался голос о. Ф.
– Снимок сделать – сказал я, ловя ракурс.
– А ну, пойдем – о. Ф. затащил меня снова в келью, закрыл дверь и внушительно показал пальцем на плакатик на двери, который я до этого не заметил. На нем было написано: “Не благословляется (строго воспрещается) совершать на территории монастыря следующее”, после чего были нарисованы кружки с красным ободом и косой линией на манер запрещающего дорожного знака. Внутри кружков были нарисованы видеокамера, фотоаппарат, бутылка с рюмкой, орущая физиономия, майка с шортами, плывущая фигура, дымящаяся сигарета, сотовый телефон и радиоприемник. Далее сообщалось, что уличенные в оном лишаются права пребывания в монастыре.
– Нигде курить нельзя? – спросил я. Улыбнувшись моему тону, о.Ф. сказал, что можно выйти к морю и там на камушках подымить, но более нигде. После чего сообщил, что вечерняя служба начнется через два часа, потом трапеза, а “пока отдыхайте” и ушел. Мой товарищ Слава принялся бодро разбирать вещи, а я сел на топчан, уныло озирая келью и гадая, какой длины эта служба окажется, да чем еще потом накормят.
Через два часа мы, вместе с монахами в черных мантиях, шли в храм. Далее я подробнее расскажу о церковных службах в монастыре, здесь ограничусь лишь тем, что они очень хороши и не тягостны даже для неподготовленного мирянина, почему – опять же разговор впереди. Но в первый день всё кажется тяжким и к этому тоже надо быть готовым. Гидов в монастыре нет, так что вновь прибывший оказывается в некоторой растерянности, куда направлять стопы и вообще – как себя встраивать в эту жизнь. Тут надо не бояться подходить к монахам, они хоть имеют вид строгий и занятой, но любому вопрошающему охотно и ласково разъяснят нужное и снабдят любой справкой об обители. Он же и предупредит о том, что можно, а что – нельзя. Замечу в скобках, что все запрещения, изображенные на стене в келье, мы исполняли без труда, т.е. не купались, не выпивали и прочая, но не от успешной внутренней борьбы, а так просто – не хочется.
В храме о. О. растолковал нам, как подавать записки и на какие случаи (одноразовые, на молебен, сорокоуст, на год и т.д.). Мой товарищ Слава, замечу кстати, привез с собой кипу бумаг, исписанных именами. Каждую свободную минуту он клал их перед собой, делал сосредоточенное лицо и заполнял именами своих сродственников и знакомых чистые листки, относя кого в категорию “о здравии”, кого – “за упокой”. Занимался он этим все дни, что мы были на Афоне, и подал готовые списки в последний день, так что, ежели его теперь спросят: “а что ты на Афоне делал?”, у него всегда будет готов ответ.
После вечерни все перешли через небольшую площадь и попали в громадную трапезную, где в былые времена помещалось до 800 монахов (при общем числе около 2000, но это в позапрошлом веке). Все встали вдоль столов, дежурный прочел молитву, раздался звон колокольца и все, усевшись, принялись за ужин.
В железной кастрюле (посуда вообще вся только железная) находился овощной суп из расчета на шесть человек, причем всем досталось довольно умеренно. Суп был неплох, но без изысков, жидковат, а впрочем – вполне. На второе в железной миске против каждого было пюре с фасолью, тоже в ограниченном для взрослого мужчины количестве.
Отдельно в общей мисочке были черные маслины, в пластиковом корытце – шесть кусков белого хлеба и четыре – черного (черный, кстати, отдавал керосином, это, как я позже выяснил, было следствием выпечки его на оливковом масле, которое придает такой вкус соотношению этого масла и ржаного теста. Слава, впрочем, ел его и очень нахваливал). В другой миске нарезаны два помидора и огурец. Стояли кувшины, я взялся за один, подозревая в нем квас, но там была чистая вода. На противоположной от меня стене были подробно, в высоту метров десяти, нарисованы двадцать мытарств преподобной Феодоры, чтобы трапезничающие и за этим делом не забывали о главном (в число этих мытарств входят празднословие, ложь, осуждение, чревоугодие, лень, воровство, скупость, лихоимство, неправда, зависть, гордость, гнев, злопамятство, убийство, чародейство, блуд, супружеская измена, содомский грех, ересь и жестокосердие). Ходящие между столов братья разливали чай. Я поглядывал на монахов, они ели молча (по Уставу), не глядя по сторонам, с выражением довольно безучастным. Через 15 минут раздался звон колокольчика и все тут же положили ложки. Мой товарищ заморгал глазами, оставшись без чая, к которому только собрался приступить по причине своей медлительности. Пауза, снова звонок и все встают на общую молитву (“Кабы знал, что так скоро, поспешил бы” – сказал удрученно мне мой друг Слава, разочарованный утратой чая с хлебом).
После ужина, через минут сорок, когда я уже сунул было в зубы сигарету и хотел спускаться к морю, нас снова позвали в храм на повечение. “Как, опять?” – чуть не вырвалось у меня, но я смолчал. Быстро темнело, в храме был полумрак, так что даже не различить стрелок на часах, горели всего несколько свечей, да лампадки. Черные тени монахов виднелись вокруг, кто стоял в сумраке, опустив голову, кто – на коленях, на одного я чуть не наступил – он распластался на полу и был почти незаметен под ногами.
Когда, после часовой службы, мы шли обратно в наш архандарик, звезды уже вовсю рассыпались над головой. Ковш Медведицы торчал непривычно вкривь и сбоку, и силуэты церковных глав с крестами составляли торжественный фон космической бездне. “А выдержу ли я все это? И, вообще, туда ли я попал?” – была моя последняя мысль первого дня.
Служба в обители
Жизнь монастырская подчинена строгим, заведенным давно правилам, она течет по Уставу, с которым согласуются все дела монастыря и которому подчиняется воля всех его насельников. Это механизм отлаженный и в этом его сила. Обитель – армия, только армия добровольческая, любой член которой может снять с себя погоны и уйти во-свояси (что, кстати, порой и происходит). Начинается брань этого воинства глубокой ночью.
Мы сладко спали под шум прибоя, когда в 2.15 ночи вдруг раздался отчаянный трезвон колокольчика в коридоре и зычный голос возгласил:
– Утреня! Во-о-сход!
Хотя никакого восхода и в помине не было и за окном стояла ночь черна. Монастырь живет по византийскому времени, суть которого в том, что полночь наступает с заходом солнца. В конце октября это происходит часов в 7 вечера, так что разница между византийским и греческим (европейским) временем составляла, когда мы приехали, 5 часов 15 минут “назад”. То бишь, по мирскому времени было, допустим,18.00, а по византийскому – 23.15. Каждую субботу время поправляют, при нас оно изменилось на 15 минут и стало 5 часов 30 минут разницы. Разница эта гуляет, зимой – больше, летом меньше. Оттого я решил, что меня нагло будят в полтретьего ночи, а в монастыре было 7 утра – вполне пора пробуждаться.
Будят столь немилосердным звоном за полчаса до начала службы, чтобы у братии было время прочесть молитвы и умыться. Туалет, кстати, далеко, надо пройти весь длинный коридор с высоченным потолком, выйти на балкон, который идет вдоль всего фасада здания, дойти до торца и последняя дверь – в туалет, общий на всех, с душем и даже с зеркалом, которого более в монастыре нигде не сыщешь.
В темноте, при той же звездной россыпи идут фигуры в нижний храм на утреню. Паломников отличишь по штанам, монахи – черный столп в рясах до пят. Свежо, с моря дует осенний ветер, темные стены монастыря возвышаются впереди, их очертания означены звездной россыпью, храмы и здания обители идут ярусами вверх по горе. По пути все прикладываются к иконе Божьей Матери во вратах, там, где незримо прошла в начале прошлого века Богородица, но Образ Ее отпечатлелся на случайной фотографии. Вокруг черно и тихо.
Двери храма открыты, люди крестятся, входят внутрь, в полумрак, где только несколько свечек и лампадки указуют путь. Из глубины слышен голос чтеца, и я ищу места, где встать.
Тут надо сказать, что в греческих традициях, которые принял и наш монастырь, вдоль всех стен церкви стоят ряд высоких кресел своеобразной конструкции. Они высоки и узки, темного дерева, с резьбой, с подлокотниками на уровне груди. Деревянное сиденье можно опустить и сидеть, а можно поднять, и тогда образуется что-то вроде подпорки для тыла, коим следует опереться и принять полусидячее положение. Можно облокотиться локтями на подлокотники и стоять, перенеся вес с уставших ног.
Монахи обращаются с этими креслами по своему вкусу. Старенькие чаще сидят, но в самые важные места службы подымаются; молодые больше стоят, облокотившись или используя подпорку. Так делал и я, используя варианты и меняя положение тела для меньшей усталости. Впрочем, порой монахи и засыпают на этих креслах, не по лености, а от тягот послушаний. Некоторые, выстаивая дополнительно ночные бдения, к утру уже клюют носом, кто-то наработался за день, а спал мало. Но это не сон, а дремота, при знакомых им моментах службы все разом встают и молятся.
Наблюдая за монахами, я пришел к заключению, что они как-то все без задней мысли, вероятно, по той причине, что задняя – больше от лукавого, а для искреннего и простого общения и передней хватает. Сами монахи по большой части красивы, брови вразлет, прямой профиль, высокие лбы. Это вообще для меня загадка, впору думать, что от православия брови в стороны начинают расти и носы выпрямляются. Впрочем, есть старцы с чистыми глазами и картошкой посредине, которая выдает их русскую крестьянскую породу. Один такой, совсем древний и низенький, всё стоял в своем креслице рядом со мной, потом отошел к алтарю, по молитвенным, видно, делам. В это время какой-то европейский турист (есть тут и такие, все монастыри “паломников” хоть на ночь обязаны принять) хотел было занять его место, но старец уже семенил обратно и тот, потоптавшись, ретировался. Подойдя, инок вдруг обратился ко мне и ткнул пальцем в свое кресло:
– Медом намазано! Так и кидаются все сюда!
Кстати, только в храме разберешь, какого монах чина, днем на работе все одеты в одинаковые рабочие “спецовки”, т.е. в старые, краской измазанные мантии, подоткнутые повыше, для удобства ходьбы. Один такой невзрачный монах тащил куда-то черного мула и я довольно фамильярно с ним пообщался. Монах с улыбкой пожаловался мне, что вот-де прибился мул, и что с ним делать – неведомо, топчет посадки. А выгонять жалко. Я хлопнул монаха по плечу, мула – по заду и только на следующий день узнал во вчерашнем конюхе архимандрита, когда подходил к целованию креста на Литургии. Я стыдливо скрючился, стараясь быть неузнанным, что он, по-моему, простодушно принял за особую юродивую набожность.
Добродушие вообще отличительная черта монахов, наряду со строжайшей дисциплиной. Любое послушание (приказ начальника) выполняется добросовестно. Лукавства не может быть еще и потому, что самый главный начальник обману не подлежит – всё видит насквозь. Оттого и на исповедь с ожесточенным сердцем идти не след, но тренированная душа надолго злобу в сердце не пускает.
В монастыре неделя идет в “нижнем” храме, неделя – в “верхнем”, куда карабкаться даже нам, столичным паломникам, минут десять, с передыхами. Туда же восходят по три раза в день и все восьмидесятилетние старцы, чему я был свидетелем неоднократно. Не постигну до сих пор, как это им удается, а впрочем, на Афоне всё не как у людей.
По дороге в “верхний храм” идем мимо колокольни, где находится самый большой колокол на Балканах, дар Клима Самгина, промышленника из Нижнего, того самого, которого неадекватно описал когда-то Горький, поскольку г-н Самгин был человек набожный и твердых правил.
– Постучите монеткой о колокол – сказал о. О., – звук – чистейшее серебро. Как он звонит, даже на горе Олимп слышно!
В том “верхнем” храме, освященном в честь Богородицы – отдельное помещение с мощевиками, где находятся:
Частицы мощей Евангелиста Луки, Фомы Апостола, Якова (брата Иисуса Христа), Дмитрия Солунского, Николая Угодника, Иоанна Предтечи, Георгия Победоносца, Косьмы и Дамиана, Григория Богослова, Даниила Московского и многих других святых, в мире просиявших, честная глава Силуана Афонского, часть животворящего Креста Господня, часть камня гроба Господня да еще часть камня Серафима Саровского. В “нижнем” храме, думаю, всем известно – святые мощи влкм. Пантелеймона-целителя. Что еще сказать?
Я первый день всё думал, смогу ли выстаивать длинные службы, но вопрос решился как-то сам собой. Покой, разлитый вокруг, передается душе, мысли успокаиваются, время перестает быть заметным и всё обретает иной смысл. К тому же пение монастырское для человека нового – совершенно неожиданная вещь.
Это – особая статья.
Мужской хор с голосами самого богатого диапазона, от альтов до глубокого баса, выучки все отменной, нотная квалификация высшего уровня. Все это помножено на традиции и культуру церковного пения. Одна тема – это фон, но и он плавает по октаве, создавая настроение. Главная тема – собственно пение, идущее порой в унисон, порой выше или ниже от фона, всё это чистоты полной и дышит одухотворенностью.
Наложение этих двух голосов производит впечатление пения ангельского и время сразу исчезает, а остается только звук сильный и чистый, который рождает в душе те чувства, которые ты переживал только малым ребенком. Такого пения ждешь и отдаешься ему полностью, какое там время!
Были мы и у греков на службе и я был поражен их голосовой слабостью, не знаю, как в Вотопеде или в иных знаменитых монастырях Афона, но лучше нашего Пантелеймонова пения ничего не слыхал.
Меж тем время на службе пролетает так незаметно, что каждый раз, входя в храм, я молил Господа о сосредоточении, а выходя – удивлялся, как это всё так быстро закончилось.
Как известно, жизнь монахов на Афоне разделена на три восьмерки – 8 часов служба, 8 часов работа, 8 часов отдых. Но никто не смог бы прожить первые восемь часов, если бы не освящала их глубокая и искренняя вера. Храм осмыслен святыми иконами и каждый, кто входит, непременно обойдет и приложится ко многим образам. Это не правило, не Устав, а духовная потребность входящих. Я не сразу понял, что обо всех святых, которых монахи почитают, у них есть твердое знание и ко всем есть личное отношение. Это знание и отношение есть для них незримая связь с прошлым, вроде живой воды, которая образует общую реку двух тысячелетий. Мы часто сетуем, что не знаем своего прошлого. Здесь же прошлое не просто знаемо, а осязаемо и не как история, а как один вечный нынешний день. Для живущих на Афоне присутствие Богородицы не есть аллегория, а такая же реальность жизни, как мир окружающий. По большому счету это уже и не совсем земля, а что-то уже выше, то, что связует небо и землю.
Так что церковные службы для монахов – это не работа и не отдых, а скорее – дом, семья, куда все они возвращаются подобно тому, как мы приходим домой и бодрствуем с домашними, любимыми нам людьми до сна, который не отделим в миру от семейной жизни, а здесь стоит особо. Но прежде монахи пекутся об ином, о том, что составляет смысл всей монастырской жизни.
Продолжение следует