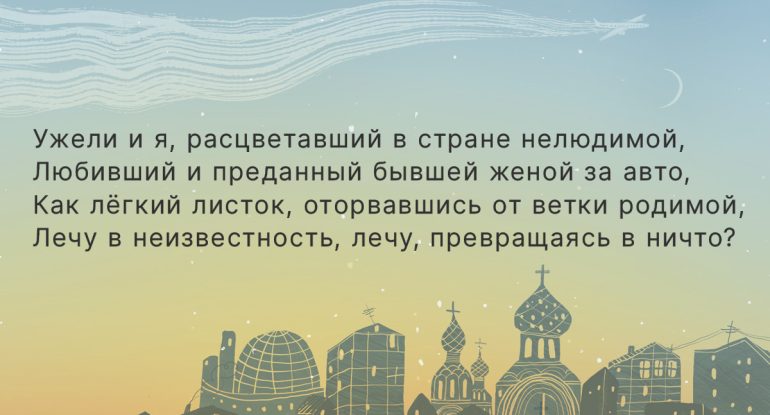Стих об уверении Фомы
Глубину Твоих ран открой мне,
покажи пронзенные руки,
сквозные раны ладоней,
просветы любви и боли.
Я поверю до пролития крови,
но Ты утверди мою слабость;
блаженны, кто верует, не видев,
но меня Ты должен приготовить.
Дай коснуться Твоего Сердца,
дай осязать Твою тайну,
открой муку Твоего Сердца,
сердце Твоего Сердца.
Ты был мертв и вот жив вовеки,
в руке Твоей ключи ада и смерти;
блаженны, кто верует, не видев,
но я ни с кем не поменяюсь.
Что я видел, то видел,
и что осязал, то знаю:
копье проходит до Сердца
и отверзает его навеки.
Кровь за кровь и тело за тело,
и мы будем пить от Чаши;
блаженны свидетели правды,
но меня Ты должен приготовить.
В чуждой земле Индийской,
которой отцы мои не знали, в чуждой земле Индийской,
далеко от родимого дома,
в чуждой земле Индийской
копье войдет в мое тело,
копье пройдет мое тело,
копье растерзает мне сердце.
Ты назвал нас Твоими друзьями,
и мы будем пить от Чаши,
и путь мой на восток солнца,
к чуждой земле Индийской;
И все, что смогу я припомнить
в немощи последней муки:
сквозные раны ладоней,
и бессмертно — пронзенное — Сердце.
1982
Мне хочется начать говорить о Сергее Сергеевиче Аверинцеве с этого его стихотворения. В каком-то смысле это его исповедание веры. В такого Христа он верил, такой апостольской традиции хотел принадлежать.
Вообще я думаю, что лучшей памятью об Аверинцеве, лучшим разговором о нем была бы постоянная публикация его трудов или отдельных фрагментов из них. Они полны будущим. Они начинают разговор, который, увы, наша современность не продолжила. Каждый раз, когда я открываю любую статью Аверинцева, о чем угодно — о малоизвестном византийском поэте или о немецком философе — его слова сообщают мне то ясное чувство, которое я испытала, впервые услышав его: они ставят всё на свои места, они приводят в порядок ум и душу. Душевная слякоть, суета, грубое недовольство — все это исчезает в свете его ясной и дружелюбной мысли. После того как он замолчал, в нашей публичной сфере не появилось человека, который мог бы сказать об Аверинцеве на уровне самого Аверинцева. Мне хочется начать говорить о Сергее Сергеевиче Аверинцеве с этого его стихотворения. В каком-то смысле это его исповедание веры. В такого Христа он верил, такой апостольской традиции хотел принадлежать.
Его «уход» из общего внимания начался уже в 90-е годы. Я думаю, это большое несчастье для нашей культуры. Предыдущее двадцатилетие я без преувеличений назвала бы временем Сергея Аверинцева: во всей нашей культуре не было имени более авторитетного и более востребованного.
Его суждение воспринималось как суд самой «мировой культуры». Если он читал лекцию (опять же, на самую малознакомую публике тему), люди, собиравшиеся послушать его, заполняли улицу у входа. Мне тогда показалось бы полной нелепостью предположение, что когда-нибудь мне придется сообщать кому-нибудь, кто такой Аверинцев.
Итак, кто Сергей Сергеевич Аверинцев «по профессии»*? Он сам затруднялся ответить на этот вопрос. Он был слишком много кто по профессии. Филолог-классик, византинист, библеист, исследователь европейской и русской культуры, историк религии, переводчик и комментатор множества текстов на древних и новых языках (среди них — сочинения Платона, Аристотеля, Плутарха, Ефрема Сирина, Фомы Аквинского; латинская, греческая и сирийская литургическая поэзия; ряд ветхозаветных книг; ранние христианские апокрифы и синоптические Евангелия; немецкая и французская поэзия XIX—XX веков). Уже одно это (далеко не полное) перечисление кажется поразительным. Но было в Аверинцеве нечто еще более удивительное, чем широта интересов и способностей и несравненная эрудиция в каждой из этих сложнейших областей: любой его труд в отдельности и вся его деятельность в целом не укладываются в известные рубрики гуманитарных «специальностей» и жанров.

Все начинается с филологии, «любви к слову»: филология, как ее понимал Аверинцев, — «служба понимания»: понимания в собеседовании читателя и текста, читателя и автора («Наш собеседник древний автор», так называлось одно из первых его публичных выступлений). Мысль Аверинцева, начавшего с «Похвального слова филологии», никогда не перестает быть филологичной, то есть самым насущным образом связанной со словесной реальностью, с конкретными текстами, с фактами языка (в этом его отличие от таких мыслителей, как Бердяев и вообще вся русская религиозная мысль). Интересно, что такой — по существу филологический, лингвистический — комментарий часто говорит больше о духовном смысле текста, чем любые толкования. Я помню один из его замечательных семинаров в МГУ по Новому Завету: он был посвящен исследованию слов «кроткий» и «нищий» (из Заповедей Блаженств) на материале библейского иврита, арамейского, греческого (вряд ли по нашим привычным представлениям мы бы назвали «кротким» Моисея — но Св. Писание говорит о его образцовой кротости!). После такого комментария расширительные толкования кажутся уже вторичными и необязательными. Это первый урок Аверинцева: прежде всякого осмысления, толкования, «морали» — простое, точное (то есть профессиональное) понимание слова, иначе толкование окажется фантазией на тему, пусть даже очень благочестивой фантазией.
Но мысль Аверинцева при этом выходит за пределы собственно филологического анализа и вступает в области философии (общей антропологии и этики) и богословия (экзегетики и христианской апологетики). Если говорить точнее, все обстоит наоборот: мысль Аверинцева исходит из некоторых начал, более общих, чем те, которыми располагает обычно «предметный» филолог (вообще предметный гуманитарный ученый), и оттуда спускается к своему конкретному предмету. Мы можем сказать, что эти самые общие начала — его христианская вера: но вера не в бытовом употреблении слова, то есть некая безотчетная убежденность в чем-то, а вера как свободная принадлежность ума определенному смысловому космосу, той доктрине, широту, глубину и парадоксальность которой мало кто знал так, как Аверинцев.
С. С. Аверинцев всегда исходил из того, что кое-что достаточно хорошо известно, и в нашей умственной работе это нас отнюдь не стесняет, а наоборот, дает огромные возможности видеть вещи правдивее. Его ясная — и именно в силу своей ясности — крайне нетривиальная мысль, охватывающая эпохи и языки, устанавливающая связи в самых отдаленных явлениях культурной истории, уникальна по своей «жанровой» природе: это мысль одновременно филолога и философа, антрополога и богослова, историка и просветителя, аналитика и ритора, христианского апологета и политического мыслителя.
Самым общим предметом всех своих гуманитарных занятий он считал человеческое понимание. Я думаю, это важнейшая тема христианского строительства души. Понимание вещей (не обязательно выраженное отчетливо для самого человека, чаще как раз нет) предшествует не только всякому нашему действию, но и созерцанию. Так что тот самый «непосредственный личный опыт», который так ценит Новое время, уже есть следствие определенной культурной установки. С множеством таких установок — предрассудков, необдуманно подхваченных общих мест и т. п. — Аверинцев полемизировал с блестящим остроумием.
Я начала со стихов Аверинцева, а в конце приведу отрывок из его ученой прозы. Такого определения формы мне не приходилось встречать ни у кого.
«Так называемая форма существует не для того, чтобы вмещать так называемое содержание, как сосуд вмещает содержимое, и не для того, чтобы отражать его, как зеркало отражает предмет. „Форма“ контрапунктически спорит с „содержанием“, дает ему противовес, в самом своем принципе содержательный; ибо „содержание» — это каждый раз человеческая жизнь, а „форма“ — напоминание обо „всём“, об „универсуме“, о „Божьем мире“; „содержание“ — это человеческий голос, а „форма“ — все время наличный органный фон для этого голоса, „музыка сфер“. Содержание той или иной строфы „Евгения Онегина“ говорит о бессмысленности жизни героев и через это — о бессмысленности жизни автора, то есть каждый раз о своем, о частном; но архитектоника онегинской строфы говорит о целом, внушая убедительнее любого Гегеля, что das Wahre — это das Ganze (истинное — это целое, нем.). Классическая форма — это как небо, которое Андрей Болконский видит над полем сражения при Аустерлице. Она не то чтобы утешает, по крайней мере, в тривиальном, переслащенном смысле; пожалуй, воздержимся даже и от слова „катарсис“, как чересчур заезженного; она задает свою меру всеобщего, его контекст, — и тем выводит из тупика частного».
Воспитанием разума я назвала бы труд Аверинцева. Он учит тому, как человеческий ум выходит из тупика «частного» (в том числе коллективного частного, иначе говоря, «партийного»), из его глухоты к открытому смыслу, который, по словам Аверинцева, ведет нас в конце концов к «тайне живого». «В конечном счете все вещи из , humanitas, вещи культуры, — все это существует ради тайны, которую нельзя подделать, тайны живого»*
*Большой обзор трудов и дней С. С. Аверинцева см.: О. А. Седакова. «Сергей Сергеевич Аверинцев: к творческому портрету ученого. — Сергей Сергеевич Аверинцев 1937—2004». М.: Наука, 2005, с. 6—72. Это издание из серии «Биобиблиография ученых», вышедшее маленьким тиражом, давно стало библиографической редкостью. — Ред.
*Из слов С. С. Аверинцева в честь А. Ф. Лосева в записи В. В. Бибихина. — В. В. Бибихин. «Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев». М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2004. С. 321. — Ред.
Фото из архива издательства «Дух и Литера»