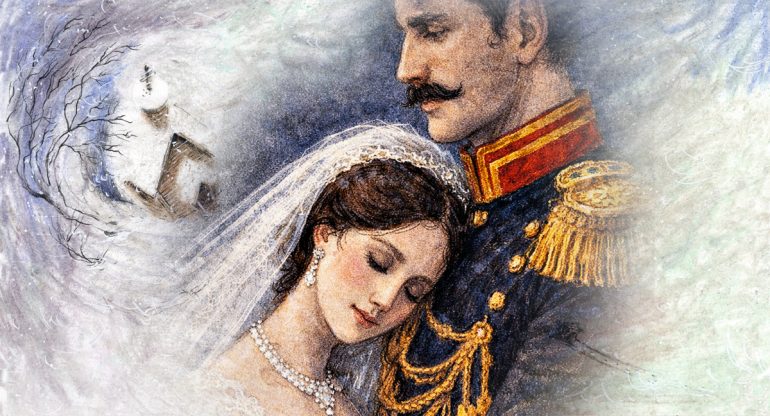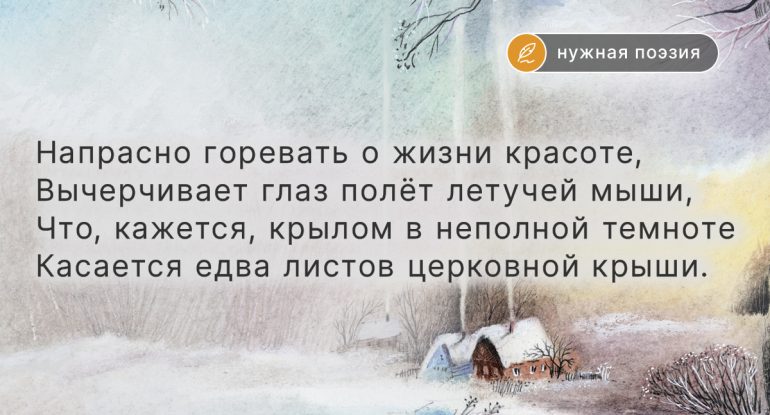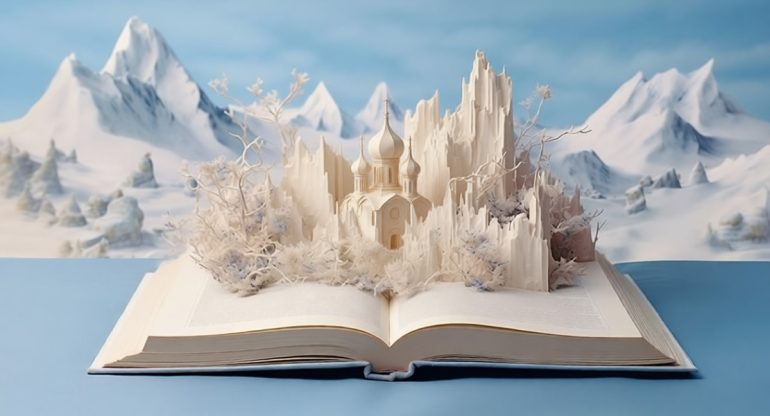Перед вами не попытка в тысячный раз рассказать о творческой биографии Пушкина. И не очередной строгий анализ его наследия. Это то, что обычно остается за скобками сухих научных исследований. Это мысли, чувства, догадки, интуиции человека, много лет читающего и перечитывающего Пушкина — и каждый раз открывающего в нем что-то, ранее ускользавшее от взгляда. Известный писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов рассказал о «своем Пушкине».
Большая загадка, был ли счастлив Пушкин в детстве, когда формируется человек? Тем более что именно ему принадлежат часто цитируемые слова: «Говорят, что несчастие хорошая школа: может быть. Но счастие есть лучший университет». Учился ли он в этом университете в ту пору, когда это важнее всего?
О детстве Пушкина мы знаем не так много. У него были не слишком хорошие отношения с родителями, не очень ладно складывались отношения с братом и сестрой. Мы знаем про дядю Пушкина Василия Львовича и о том, какое влияние оказала атмосфера его дома на будущего поэта. Знаем о воспитании, которое он получил в детстве: с одной стороны, французское, с другой стороны — русское. Но отделить здесь мифологическое от реального, мне кажется, довольно сложно, и о многом остается только гадать.
Зато можно утверждать наверняка: Пушкин детство очень хорошо понимал, ценил и любил. В пушкинском мире много детей, много сказок и точно так же много сказочного даже во взрослых его вещах — «Повестях Белкина», «Капитанской дочке», даже в бесконечно печальном «Медном всаднике» со сказочным превращением пустынного брега в дивный город (и нечто похожее есть в «Сказке о царе Салтане»). Пушкин явно чувствовал эту живость, обращенность, нацеленность на детский мир, детское восприятие, на чудо и волшебство. Он как будто догадывался о своей миссии, знал, что его начнут читать в детстве и с ним русский человек независимо от своих взглядов, своего положения и рода деятельности будет проходить всю жизнь.
С пушкинским отрочеством картина как будто бы более ясная. В 1811 году Пушкин поступает в Царскосельский лицей. Это, конечно, была безусловная удача, великое стечение обстоятельств в его жизни, что именно в ту пору, когда его родителям предстояло выбирать учебное заведение для своего первенца, в России открылся лицей в Царском Селе, призванный готовить элиту — управленцев Российской империи. А среди прочего подготовил и будущих декабристов, и будущего поэта.
Впрочем, о том как учили в Лицее, единого мнения нет. С одной стороны, существует точка зрения, что Царскосельский лицей был одним из самых замечательных учебных заведений не только своего времени в России, но и в принципе может рассматриваться как идеальная модель образования. С другой стороны, вспомним: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь…» Но в пушкинском случае важнее даже не это. Он из всего умел извлекать пользу, все обращать на благо своего таланта. В Лицее сформировался важнейший для Пушкина культ дружбы, который поэт сохранил и пронес через всю жизнь. Это ключевая для него сфера частной человеческой жизни. Лишенный семейного счастья и, пожалуй, глубоко не отразивший его в своем творчестве (и кстати, обратим внимание на то, что в пушкинском мире практически нет многодетных семей, что в общем-то нонсенс с точки зрения реального положения дел), Пушкин глубочайшим образом выразил идею человеческой дружбы и солидарности.
Все мы опять же с детства помним: «Друзья мои, прекрасен наш союз!» Этот союз родился в садах Лицея, где Пушкина учили замечательные профессора, где была прекрасная библиотека, где развивались и душа, и дух, и тело великого поэта. И обстоятельства удивительным образом складывались так, чтобы этот заряженный энергией человек взлетел как можно выше и как можно дальше.
В Пушкине изначально было что-то неуловимое, летучее. В нем поразительная быстрота перемещения. Когда думаешь о Пушкине, то представляешь стремительное, летящее, очень легкое и в то же время очень насыщенное, наполненное человеческое существо. И чувствуешь, как через него проходят токи времени, места, действия. И оттого о нем хочется говорить, перескакивая с одного на другое. Так, строки одного из последних его стихов «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»: «Что в мой жестокий век восславил я Свободу // И милость к падшим призывал» — тоже ведь уходят в лицейскую юность, в жажду свободы, которую он пронес сквозь все свое творчество, все свои годы, все свои искания.