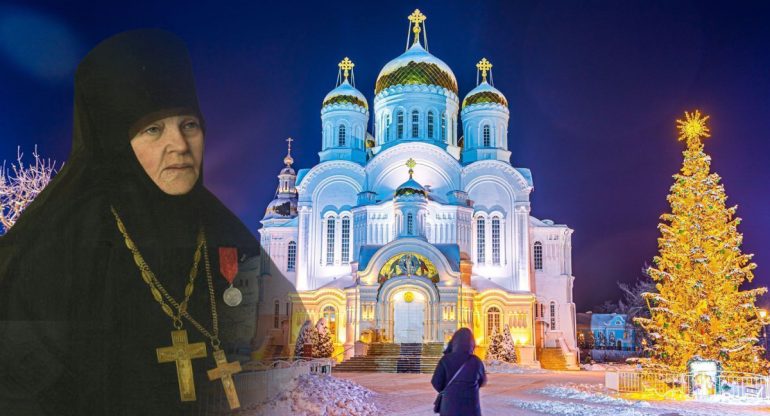Ему достаточно было чуть слукавить, и он остался бы жив. Но он поступил иначе. Этот человек сделал свой выбор, понимая, сколь высока может быть плата за него. О судьбе священника Димитрия Клепинина — статья журнала «Фома».

Допрос
О том, что происходило в тот день, сохранилось несколько свидетельств. Причем одно из них принадлежит... гестаповцу по фамилии Гофман. Он проводил обыск в доме, где находились близкие отца Димитрия, и между делом поделился с ними подробностями случившегося.
...Перед немецким офицером стоял невысокий худощавый человек — невзрачный, с носом картошкой. Сквозь очки в стальной оправе смотрели близорукие, чуть косящие глаза. Обычный штатский, никакой не заговорщик. От него требовалось лишь подтвердить, что к организации «Православное дело» и ко всему «противозаконному», что происходило у матери Марии (Скобцовой) на улице Лурмель, он отношения не имеет... Немец намекал, что отпустит арестованного, если тот пообещает не помогать неблагонадежным. Но священник молчал.
— Объясните, ради кого вы стараетесь?! — не выдержал гестаповец. — Ради этих... евреев?!
Тогда отец Димитрий взял в руки свой наперсный крест:
— А об Этом еврее вы слыхали?..
И тут же получил удар кулаком в лицо. Но не шелохнулся, лишь прошептал разбитыми губами:
— Если вы меня освободите, я буду делать то же, что и раньше.
— Что ж, вы сами себя погубили.
Гестаповец вышел, и охрана принялась жестоко избивать священника. Участь его была решена — концлагерь.
В тени матери Марии
Священник Димитрий Клепинин не был ни ученым-богословом, ни ярким проповедником. После него остались только дневники, письма и немногочисленные воспоминания — в основном в связи со знаменитой монахиней Марией. Мать Мария (Скобцова) — героиня французского Сопротивления, которая организовала на парижской улице Лурмель приют для бедняков и русских эмигрантов, а во время фашистской оккупации — для тех, кого преследовали оккупанты, в первую очередь для евреев. Спасшая многих людей, сама она приняла мученическую смерть в концлагере.

Но свой ежедневный подвиг мать Мария совершала не одна. Рядом с ней самоотверженно трудились ее единомышленники. И скромный пастырь Димитрий Клепинин был одним из них.
Слабый мальчик
В 1904 году в семье известного архитектора Андрея Николаевича Клепинина и его жены, педагога Софьи Александровны, двоюродной сестры известной поэтессы Зинаиды Гиппиус, родился третий ребенок — сын Дима. Крестным отцом мальчика стал знаменитый писатель Дмитрий Мережковский.
Клепинины жили в Пятигорске. Целебный воздух, благоприятный климат, горы... Но Дима рос слабым и болезненным. Ему не было и года, когда он перенес тяжелейшее воспаление легких. Полностью он так и не оправился — рос хилым, отставал от ровесников в физическом развитии, казался беспомощным… и при этом испытывал острое чувство сострадания ко всем слабым и обиженным, любил животных, был очень честным и смелым. А кроме того, обладал тонким чувством юмора, и те, кто сходились с ним ближе, скоро проникались к нему симпатией.
Семья у Димы была набожной. Софья Александровна читала детям Евангелие, писала тексты молитв. А когда они перебрались в Одессу, открыла там школу, где сама преподавала Закон Божий. Она была мировым судьей, помогала бедным… Дима был очень привязан к маме.
Расставание с Россией
В 1919 году Одессу заняла белая армия, и Дмитрий пошел служить матросом на торговый пароход. А когда его семья переехала в Турцию — подальше от гражданской войны, — поступил в Константинополе в американский колледж.
В 1921-м Клепинины перебрались в Сербию. Вместе с другими русскими семьями поселились в окрестностях Белграда. В их большом доме проходили собрания православного студенческого кружка, и Дима вместе с кружковцами часто ездил в Ново-Хоповский монастырь. Это утверждало его в вере.

Как писала Анна Гиппиус, сестра известной поэтессы, «он нашел среди этой молодежи ту подлинную церковную среду, которую его душа, вероятно, уже давно инстинктивно искала и в которой произошла его настоящая и уже окончательная встреча с Церковью».
У могилы матери
Февраль 1922-го. Кладбище под Белградом. Дмитрий стоит у могилы внезапно умершей матери, Софьи Александровны, которую он так горячо любил. «Я пришел на могилу моей матери с тяжелым игом житейским, — писал он впоследствии,— и все казалосьтаким запутанным и безысходным, и нашел легкое бремя Христово. Не знаю более счастливого момента моей жизни и благодарю за все, что Бог дал мне перенести. После этого я иначе устроил свою жизнь и легче было отстранить всю запутанность разных обстоятельств...»
Он понял значение страданий, осознал, что всё, на что надеялся в жизни, ушло. И вспомнил слова Спасителя: Приидите ко Мне все труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы. Возьмите иго Мое на себе… и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть (Мф 11:28–30). Позже Дмитрий вновь и вновь обращался к матери в своих дневниках, разговаривал с ней, просил помощи и укрепления на пути, угодном Богу.
Иная жизнь
В 1925 году в Париже открылся Свято-Сергиевский православный богословский институт. И Дмитрий стал его студентом. Учился под началом протоиерея Сергия Булгакова. Позднее один из руководителей РСХД (Русское студенческое христианское движение) Федор Пьянов писал: «Богословский институт был для отца Дмитрия духовным домом. Хотя он не был богословом в точном смысле слова, тем не менее его духовная связь с отцом Сергием Булгаковым была огромна. Я думаю, он воспринимал отца Сергия не столько как ученого-богослова, но как личность, которая прошла тернистый, скорбный путь, как и вся русская интеллигенция, от марксизма к Церкви. Дмитрий поражался его огромным творческим даром».
После Богословского института Дмитрий окончил еще Богословскую семинарию в Нью-Йорке, а потом в Чехословакии помогал своему духовному отцу протоиерею Сергию Четверикову.
Наконец в 1934-м он вернулся в Париж. Жил на случайные заработки — нанимался чернорабочим, натирал полы, мыл окна... А параллельно служил псаломщиком и руководителем хора в храме Русского студенческого христианского движения, участвовал в летних лагерях и съездах движения.

Большое влияние на Дмитрия оказал митрополит Евлогий (Георгиевский). Во многом благодаря ему Клепинин пришел к мысли о священстве.
Но для принятия сана ему нужно было найти невесту. Застенчивому молодому человеку в этом деликатном деле помогали все знакомые, родственники — вся парижская православная среда. Наконец на одном из съездов РСХД Дмитрий встретил Тамару Баймакову, секретаря движения и корреспондента «Вестника» в Риге. Они были знакомы еще до его отъезда в Америку. Как свидетельствует митрополит Евлогий, «мы все хорошо знали и сердечно любили супругу Дмитрия Тамару Федоровну за ее золотое сердце, которое она отдала своему мужу, создала ему тихий семейный очаг, дала двух прекрасных деток и вообще пошла с ним нога в ногу по всему жизненному пути, по пути пастырства и, наконец, по страдальческому пути, так трагически закончившемуся. А какие чудные письма писал он ей из своего заточения, как утешал ее, как нуждался в молитве. Да, несомненно, она скрасила его одинокую жизнь и в самом заточении, и, умирая, он благословлял ее имя и ей поручал двух своих малюток».
Дмитрий и Тамара повенчались в 1937-м в церкви Сергия Радонежского в городке Коломбель в Нормандии. И тогда же митрополит Евлогий рукоположил Дмитрия в дьяконы, а вскоре и в священники.
А в1938-ом у Клепининых родилась дочь Елена.
Пастырь с улицы Лурмель
С осени 1939 года отец Димитрий служил настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы при общежитии матери Марии — того самого легендарного приюта на улице Лурмель, где находили помощь и поддержку обнищавшие русские эмигранты. Клепинины и сами жили при общежитии.
В 1942-м в семье появился второй ребенок — сын Павел.
Добрый мягкий пастырь полюбился прихожанам Лурмеля. Но вся мягкость его исчезала, когда вопрос касался Христовой Истины. Отец Димитрий становился непоколебимым. Это очень сблизило его и мать Марию. Батюшка не только крестил, венчал, отпевал, исповедовал и причащал, но и — вместе с матерью Марией — помогал психически больным людям, забытым или по недоразумению очутившимся в психиатрических лечебницах, и окормлял своих духовных детей, которых у него было множество...

В те тяжелые годы в Париже часто кого-то хоронили. В основном бедняков. Отец Димитрий, сам болезненный и слабый, то и дело выезжал на кладбища, иногда по три-четыре раза в день. Для нищих похороны были бесплатные. «Наша церковь превращается в кладбищенскую, — говорила мать Мария, — почти каждый день — похороны».
Убежище
В июне 1940 года в Париж вошли фашисты. Многие русские вместе с другими иностранцами, не имевшими французского паспорта, оказались в лагере для интернированных Руалье близ Компьеня. И комитет помощи заключенным, организованный на улице Лурмель, стал отправлять им продуктовые посылки. Отец Димитрий благословлял эти отправки и регулярно служил молебны о спасении России.
К июлю 1942-го, когда Холокост во Франции вступил в кульминационную фазу, свидетельство о крещении превратилось для евреев в «охранную грамоту», спасающую жизнь. И отец Димитрий начал выдавать им такие свидетельства, утверждая, что Сам Спаситель поступил бы так же. Батюшка создал картотеку, куда внес сведения о восьми десятках новых «прихожан». Среди них он выделял две категории: одним «охранная грамота» была нужна формально — им он выдавал свидетельство о принадлежности к лурмельскому приходу, другие действительно хотели принять православную веру — их отец Димитрий готовил к таинству Крещения.
Когда же из епархиального управления в Лурмель пришло требование предоставить список новокрещеных, начиная с 1940 года, отец Димитрий ответил: «Все те, которые, — независимо от внешних побуждений, — приняли у меня крещение, тем самым являются моими духовными детьми и находятся под моей прямой опекой. Ваш запрос мог быть вызван исключительно давлением извне и продиктован Вам по соображениям полицейского характера. Ввиду этого я вынужден отказаться дать запрашиваемые сведения».
Между тем гонения на евреев переросли в планомерное уничтожение. Теперь им нужны были не бумаги, а убежища. Мать Мария со своими помощниками прятала несчастных на улице Лурмель — в общежитии, в часовне... Отец Димитрий уступил еврейскому семейству свою комнату: «Эти несчастные — мои духовные дети. Церковь во все времена была убежищем для жертв варварства».
Последняя литургия на свободе
Долго оставаться незамеченным это, естественно, не могло. 8 февраля 1943 года в приют нагрянуло гестапо. В кармане сына матери Марии, Юрия Скобцова, нашли записку женщины-еврейки, которой Юра носил еду. Письмо было на имя отца Димитрия. В нем была просьба выписать удостоверение о крещении.
Фашисты отобрали у батюшки удостоверение личности, велев на следующее утро явиться в гестапо. Юру забрали в качестве заложника: «Освободим, когда явится мать!» (Матери Марии в тот день в Париже не было.)

На следующий день, понимая, что ему уже не вернуться, отец Димитрий отслужил литургию — последнюю на свободе — и отправился в гестапо. А дальше — четыре часа допроса. И то самое предложение: «Пообещайте, что не станете помогать евреям — отпустим».
А на улице Лурмель арестовывали все новых и новых подозреваемых, в том числе и душевнобольных, которым мать Мария и отец Димитрий давали работу. «Православное дело» было ликвидировано. Но Тамаре, супруге Клепинина, с шестимесячным сыном и четырехлетней дочерью удалось бежать и скрыться в предместье Парижа.
В Компьене
...По лагерному плацу идет сутулый худой человек в очках. К нему подходит один из заключенных и протягивает... луковицу! Удача! Заключенные голодают, в поисках пропитания роются в очистках, а тут такой подарок! Священник рассеянно берет луковицу, благодарно кивает. Соседи по бараку оживляются: луковицу можно бросить в воду с картофельной шелухой — будет суп! Но их планам не суждено сбыться. Возле священника оказывается студент-серб — грязный, изможденный: сербы особенно голодали в лагере. И батюшка, ни секунды не задумываясь, протягивает ему луковицу. Серб хватает подарок и, не веря своему счастью, убегает. Товарищи хмуро смотрят на священника, а тот счастливо улыбается — он очень доволен тем, что только что сделал...
Когда разрешили передавать узникам посылки, отец Димитрий все, что получал от жены и близких, тут же раздавал другим. Свой барак он превратил в церковь: к кроватям заключенные прислонили доски от столов, соорудив самодельный иконостас. Жена передала отцу Димитрию антиминс, и он получил возможность совершать богослужения. Он готовил Юру Скобцова, попавшего в тот же лагерь, к принятию сана, каждый день служил литургию и вечерню или всенощную. И очень переживал, что не может воздействовать на советскую молодежь — к общим молитвам пленные из СССР долго были равнодушны. Но со временем батюшке все же удалось привлечь некоторых из них к участию в богослужениях.
В лагере отец Димитрий не расставался с Библией — читал ее ночи напролет. Он даже организовал кружок по изучению жизни Иисуса Христа, Писания и богослужений.
А тем временем друзья священника хлопотали за него на воле. И не без успеха: немец пастор Петер, который, с одной стороны, благоволил к православным, с другой — имел достаточное влияние на оккупантов, пообещал замолвить за него словечко. При одном условии: требовалось, чтобы отец Димитрий заявил, что его деятельность в доме матери Марии ограничивалась лишь обязанностями священника.

Но ответ отца Димитрия расстроил его друзей: «В хлопотах обо мне ни в коем случае не надо отмежевывать меня от “Православного дела”. Это бросает тень на него. Это как бы соглашение с обвинениями... Мы все равно несем ответственность и одинаково ни в чем не виноваты».
В Доре
В декабре 1943 года узников перевели в концлагерь Бухенвальд, а оттуда — в подземный лагерь смерти Миттельбау-Дора. Там на подземных заводах без света и практически без воздуха голодные рабы делали для фашистов ракеты «Фау-2» — даже работа на бухенвальдских каменоломнях казалась на этом фоне курортом.
В Доре под землей работали, под землей же и спали. В 1944 году из 1000 человек через 2–3 недели оставались в живых 200. Впрочем, «живыми» их назвать можно было с натяжкой — больные, истощенные, немногие из них могли протянуть потом больше месяца...
И без того слабое здоровье отца Димитрия в Доре совсем пошатнулось. Но он продолжал поддерживать павших духом товарищей. Ему полагалась нашивка с буквой F, дававшая послабления заключенным французам. Но Клепинин эту нашивку сорвал и заменил ее знаком, выдававшимся советским заключенным, — он хотел разделить их участь.
Выглядел священник так плохо, что его бригадир обратился к начальнику-немцу:
— Дайте этому старику работу полегче! С такой тяжелой он не справится.
Начальник оглядел Клепинина, кивнул, но в последний момент поинтересовался:
— Сколько тебе лет?
И опять у отца Димитрия был шанс: назови он любой возраст — 65, 70, 75 лет, — поверили бы и дали послабление. Но священник честно сказал:
— Тридцать девять.
— Ну какой же он старик! — усмехнулся начальник, и послал отца Димитрия таскать неподъемные плиты.
Смерть
Мучительна была работа, но еще страшнее многочасовые переклички на ледяных сквозняках. Во время одной из них отец Димитрий простудился и тяжело заболел плевритом. Юрий Казачкин, входивший в группу «Православное дело» и тоже попавший в Дору, добился, чтобы Клепинина перевели в помещение для освобожденных от работы по болезни. Через несколько дней он смог навестить там отца Димитрия. Священник умирал. 8 февраля 1944 года Казачкин принес ему открытку, чтобы тот мог черкнуть пару строк близким, но Клепинин уже не мог ни говорить, ни писать.
Через день отец Димитрий скончался.

***
Когда исполнилось ровно 40 лет со дня смерти отца Димитрия, его дочь Елена, которая и сегодня живет в Париже, записала такое воспоминание о нем:
«Отец играет со мной, у нас в комнате он стоит на табуретке, он мне кажется гигантом, с его рук спускается белая птица из бумаги, которую он для меня смастерил. Я долго была уверена, что все “папы” — священники, и рассказала однажды сказку, где птенчик летит за своим папой и клювом тащит его за рясу домой!
И вот удивительное явление: воспитанная в церковной среде, окруженная друзьями отца, священниками (как отец Никон, будущий епископ), псаломщиками (как Алексей Бабаджан), регентами (как Федор Паторжинский), хористами, прихожанами нашего прихода; впитав все божественное как естественное течение от Отца Вседержителя через отца-служителя, я восприняла его смерть как непосредственное возвращение в лоно Отца, в рай. Меня больше взволновало горе мамы, чем отсутствие папы. Вышло так, как будто он остался навсегда в алтаре и не выходит к своей пастве, но это не грустно. Ведь он там, где Бог, и продолжает Ему служить.
Выходило так, что все прихожане и наша родня разделяли мое мнение. Все вспоминали его с такой любовью, с такой благодарностью, что грусть их была легка, как наша скорбь по распятому Христу, о Котором мы знаем, что Он воскрес».