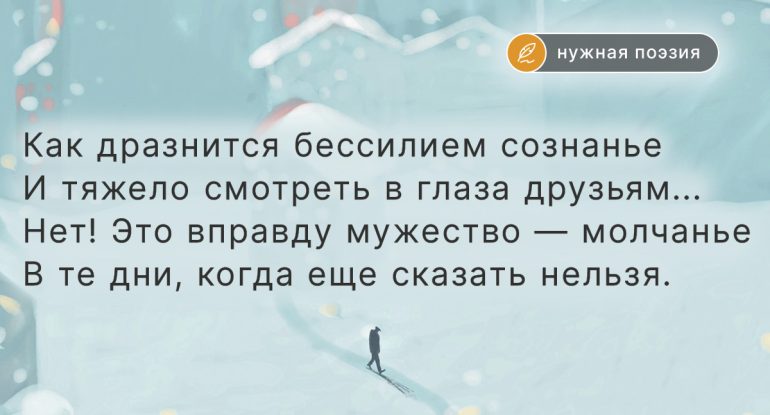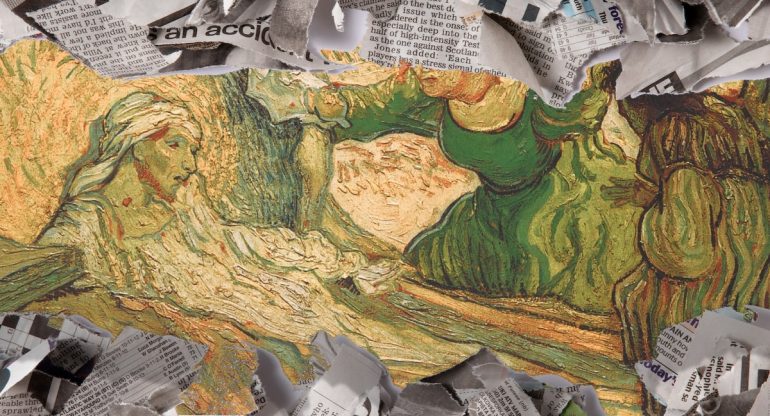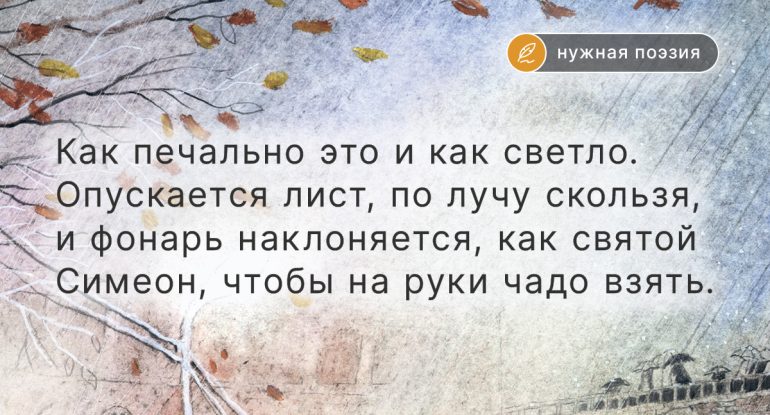Ровно 175 лет назад, в 1839 году, была опубликована статья выдающегося русского философа и богослова Алексея Хомякова «О старом и новом», с выходом которой принято связывать возникновение такого важнейшего течения в русской культуре и философии, как славянофильство.
О том, кто такие были славянофилы и почему их учение сохраняет свою актуальность и поныне, мы говорим с заместителем декана философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова по научной работе, доцентом кафедры истории русской философии философского факультета МГУ Алексеем Козыревым.
— Существует такой стереотип, что славянофилы — по самому смыслу слова — были поклонниками и любителями всего славянского, всего русского. Но так ли это?

— Славянофильство как философское течение и своего рода политическая и общественная «протопартия» возникает в середине 1830-х годов. Центральные славянофильские умонастроения сформулированы еще в стихотворении Алексея Степановича Хомякова «Мечта» 1835 года. Давайте приведем его полностью, оно замечательное, очень показательное для мировоззрения славянофилов:
О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес:
Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие срываются с небес.
А как прекрасен был тот Запад величавый!
Как долго целый мир, колена преклонив
И чудно озарен его высокой славой,
Пред ним безмолствовал, смирен и молчалив.
Там солнце мудрости встречали наши очи,
Кометы бурных сеч бродили в высоте,
И тихо, как луна, царица летней ночи,
Сияла там любовь в невинной красоте.
Там в ярких радугах сливались вдохновенья,
И веры огнь живой потоки света лил!..
О! никогда земля от первых дней творенья
Не зрела над собой столь пламенных светил!
Но горе! век прошел, и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок...
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сияньи новом,
Проснися, дремлющий Восток!
Это стихотворение показывает нам, что в тогдашней русской культурной среде была тоска по Европе до Французской революции, по христианской Европе Средневековья. И видя, как эта Европа уходит, как тонет этот Титаник христианской цивилизации, поколебленный событиями 1789 года, славянофилы обращаются к Преданию, к тому, что может удержать формы прежней культуры, сцементировать их.
Славянофилы не пытались вернуть Россию в допетровское прошлое. Их проект был устремлен в будущее. Прав был Александр Иванович Герцен, который говорил, что славянофильство и западничество — это «двуликий Янус». Они смотрят в разные стороны, но у них одно сердце и оба они едины в мысли, что необходимо что-то менять в русской жизни.
Однако западниками и славянофилами по-разному решался вопрос, на каком основании проводить реформы. Если западники ориентируются на Европу, где царят формы политической демократии, республики, секулярности, то славянофилы — на предание, они стараются показать, что будущая реформа будет тем живее и успешнее, чем полнее она опирается на Предание.
— Между прочим, мы и сейчас, на новом этапе, совсем как славянофилы, тоже ищем ответы на настоящие вопросы в прошлом — советском и досоветском. Откуда вообще в России такая тревожная обращенность к прошлому?
— У меня нет прямого ответа на этот вопрос. Может быть, причина коренится в тех традициях, которые сформированы в нашей культуре Православием. Возьмем, например, отношение к кладбищу и погребению. В Европе ходят на кладбище очень редко. Может быть, один раз в год, навестить могилы родных. Во многих европейских странах, когда хоронишь человека, ты, как правило, заключаешь договор на концессию, которая истекает через 25 или 50 лет, после чего могила уничтожается. Или ты должен доплатить, продлить концессию и выложить приличную сумму. Однако через 50 лет зачастую остаются только внуки и правнуки, которым уже нет особого дела до могил предков.
Для русского же человека кладбище — традиционно особое по значению место, он постоянно туда ходит. Даже приезжая за границу, он идет на кладбище. Это вызывает неподдельное удивление у европейцев, которые говорят: что вы там забыли? У вас же там никто не похоронен! Я сам сталкивался с этим в Швейцарии и Франции в начале 1990-х годов, когда, первый раз оказавшись в Париже, решил поехать на Сент-Женевьев-де-Буа и попал туда вечером после закрытия. Сторож, видимо, турок, милостиво согласился меня пустить и показать могилы Бунина и других. Но при этом удивлялся: «Что это вы, русские, все ходите на кладбища? Почему ваш президент тоже сюда приезжал?»
Очень важное место в православной церковной традиции занимает поминовение усопших. В круге недельного богослужения суббота — день особого поминовения предков. Люди, которые нас оставили, — это люди, с которыми мы воссоединимся за гробом, и с которыми мы воссоединяемся в нашей молитвенной памяти и Евхаристии. Также особое отношение православного сознания к панихидам, подаче записок в храме, к свечке, поставленной на канон. Равного по силе и глубине отношения к памяти предков в других христианских конфессиях я не встречал.
Богоборческий период нашей истории связан с особо пренебрежительным отношением к памяти о прошлом. В этот период, например, обычным делом стало строительство парка культуры и отдыха или жилого массива на месте городского кладбища.
Иногда кладбища уничтожались без цели и смысла, как, например, кладбище Новодевичьего монастыря. Оно было превращено в музей. Кладбище сильно проредили, оставив 100 с небольшим могил людей, которые показались чиновникам знаковыми для культуры. Если для русского человека до революции было нормальным знание своих предков до седьмого колена, то правилом советского человека было как раз незнание своих предков. Зачем их знать, если история начинается с 1917 года?
— Вопреки устоявшемуся стереотипу, славянофилы много критиковали и Россию. В чем была суть этой критики, и почему они все же были именно славянофилы и убеждали других, что у России должен быть свой, особый путь в мире?
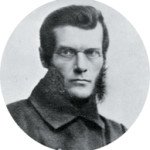
— Сегодня, когда студент читает тексты Хомякова и Киреевского, ему сложно понять, о чем они спорили, в чем разница их позиций. Хомяков более радикальный критик России, чем Киреевский. Он говорит о том, что, обладая сокровищницей истинной веры, мы сокровищницу не бережем, не храним и не используем в нашей культуре. Мы ничего с этой святыней под спудом сделать не смогли. А Киреевский доказывает, что есть в нашей истории достижения, которые отличают нас от Запада. К примеру, монастырское просвещение. Нельзя сказать, что мы «дремучая» страна, у нас есть глубокое религиозное просвещение, которое не столь блестящее внешне, как западное, но которое укореняет в сердце русского человека веру во Христа. Он говорит о том, что у нас нет традиции европейского рыцарства, и от этого не возникает множества индивидуальных миров, которые возникают на Западе, поэтому наша культура более общинна.
Для Хомякова же русская культура — то, что в полной мере мы еще должны обрести в будущем. Как он говорит в еще одном стихотворении:
В судах черна неправдой чёрной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мёртвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!
Показательно, что здесь звучат мессианские нотки. Как говорил Гоголь, хоть у нас и лужа в полгорода, в которой свиньи купаются, но у нас все-таки прежде, чем во всей земле, будет воспраздновано Светлое Воскресение Христово.
— Славянофильское движение было по преимуществу движение национальное или религиозное?
— Преимущественно религиозное. Это, как говорил историк русской философии протоиерей Василий Зеньковский, была целостная религиозная философия культуры. Религия, по мысли славянофилов, является основанием культуры, и верования народа определяют все другие формы его жизни.
Тот же Хомяков считал, что мы имеем сокровищницу — неповрежденное христианство, Православие,— которую не ценим, не используем. То есть мы относимся к нашей вере очень формально, в то время как это невероятное богатство, которое сохраняет полноту истины Церкви. Не случайно Хомяков написал один из первых, если не первый, светский катехизис «Церковь одна». Первая его публикация состоялась после смерти Хомякова в журнале «Православное обозрение» в 1864 году. В том же году он был опубликован на английском языке в Брюсселе.
— А что это за сочинение?
— Эта короткая работа является толкованием к Символу веры и рассказом об основных церковных Таинствах. И для Хомякова важно, что Церковь одна. Что нет русской Церкви, нет болгарской Церкви, сербской Церкви или польской. Церковь одна и это Церковь Истины, где Истина пребывает. В этом отношении славянофильство является пророчеством об истинной Церкви, а также представлением этой истинной Церкви.
Словом, свою миссию славянофилы видели в том, чтобы «рабам земли» напомнить о Христе, который не превратился в юридическую силу, как в папстве, и в профессорскую эквилибристику, как в протестантизме. О Христе, который пришел в рабском виде, принял на себя образ человека, для того чтобы человек стал Богом.
— Как известно, славянофилы резко оппонировали католичеству. На чем базировалась их критика?
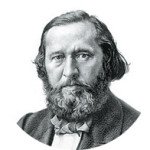
— Они критиковали прежде всего понимание власти Папы как земной силы, которая смешивается с силами «мира сего». Мы видим эту тему у Достоевского в его «Великом инквизиторе», совершенно блестяще им решенную в славянофильском духе. Власть Папы — власть церковная, которая по форме остается таковой, но уступает трем искушениям Христа.
Это также и критика западного рационализма. Между первыми славянофилами было некое разделение труда. Философом преимущественно был Иван Васильевич Киреевский, а Хомяков был историком и религиоведом, как бы мы сейчас сказали. Когда Киреевский скоропостижно умер от холеры, то Хомяков взял его работы, отрывки, найденные в его бумагах, немногочисленные статьи, которые он успел напечатать, и стал продолжать его философскую мысль.
Вообще Киреевский был ищущим человеком. Он первое время постоянно метался, менял философские системы. Становился то гегельянцем, то шелленгианцем, пока не воцерковился и не пришел в Оптину пустынь.
Критика рационализма взята Хомяковым от Киреевского. Это их общая идея, которую они неоднократно обсуждали и в переписке, и в дружеских беседах. Суть ее сводилась к тому, что «набрасывание» на жизнь логической схемы еще не означает саму жизнь. Мы можем сделать замечательный чертеж башни, но это не значит, что башня обязательно будет выстроена. Отнюдь не достаточно разума для того, чтобы осуществить полноту жизни. Для этого необходимы еще вера и воля.
Киреевский говорил о трех схизмах или расколах, отпадениях в истории Запада. Сначала философия отделяется от религии, это происходит в эпоху Античности. Затем Католическая Церковь отпадает от Церкви Православной, Вселенской. В результате — Католическая Церковь приходит к утверждению новых догматов. Введение догмата филиокве (о том, что Святой Дух исходит не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына) и разделение Церквей рассматривалось славянофилами как проявление самовластия разума. Затем — в протестантизме — разум отделяется от веры и происходит Реформация. Совершается отделение индивидуального разума от полноты предания Церкви. И из Реформации уже возникает проблема секуляризма и секулярной философии, которая забывает о том, что она имеет христианские корни.
— Они видели в этом поврежденное христианство?
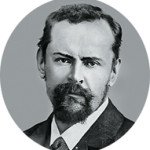
— Да, христианство, которое повредилось из-за самовластия разума и его гордыни, из-за дерзновения человеческого разума внедриться в сущность божества и затем истолковать и интерпретировать эту сущность по своему разумению.
В основании же славянофильской философии лежит идея цельности разума, цельного познания, живознания, как говорил Хомяков, которое нарушается в разделении веры, разума и опыта. Выделение разума как некой самостоятельной, самодовлеющей силы, по их мнению, и происходит в западных конфессиях, в католичестве и протестантизме.
Правда, хотя эти идеи славянофилов очень последовательны и цельны, но они тоже дискуссионны. Например, другой русский философ, Сергей Трубецкой, который в юности со своим братом, тоже философом, Евгением Трубецким очень увлекался Хомяковым, потом пишет: как мы можем говорить о западной теологии как о сугубо рациональном богопознании? Там же есть, например, католическая мистика. То есть западное богопознание не сводится только к рациональным способам постижения Бога. И Сергей Трубецкой даже употребляет в письмах к брату такое слово, как «хомяковщина».
— А можно на уровне конкретных рецептов охарактеризовать славянофильское видение того, как следует обустроить Россию?
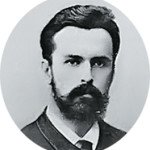
— Славянофилы были философы культуры, а не философы политики. К ним стоит обращаться в поисках ценностей для национально-культурной доктрины, а не искать у них конкретных политических рецептов. Например, Хомяков обращает внимание в двух своих статьях на то, как иностранцы думают о России и как русские думают об иностранцах. Это и сегодня очень актуальные тексты. Одно дело, когда нам, русским, ставят на вид, что у нас есть коррупция, что мы отстаем в нашем экономическом развитии от США. Другое дело, когда нам говорят, что мы ничтожная и жалкая страна или, как выразился один современный американский деятель, — бензоколонка.
Хомяков обращает внимание на нашу национальную черту некоего самоумаления, когда мы перед лицом иностранцев сами начинаем себя умалять и унижать, говорить, что мы никчемная страна и т. д. Хомяков говорит, что мы не умеем без подсказки извне себя ценить, гордиться своей культурой, страной и традицией, и ждем, пока что-то не похвалят у нас иностранцы.
Вот похвалил кто-то, например, на Западе русский авангард, и мы начинаем вслед за этим тоже им гордиться. Хомяков же призывал к трезвой рефлексии и трезвому национальному самосознанию.
Является ли это элементом политического проектирования? Нет. Но это важный элемент для здравого национального самосознания. В чем ценность раннего славянофильства? Не в том, что мы всех лучше и всех шапками закидаем, но в том, что русская культура рассматривается ими как часть мировой культуры, занимающая в ней свое уникальное место.
— А в чем именно уникальность?
— В сохранении Православия, которое для славянофилов и является истинным христианством.
— На Ваш взгляд, эти мысли славянофилов актуальны и сейчас?
— Да, но если Православие не представлять как некий товар и бренд, которым мы должны гордиться, например, наряду с авангардом. Вот у нас, дескать, есть авангард, а еще есть и Православие. Есть Кандинский, а есть новгородская и псковская иконопись.
Подобная эксплуатация Православия имела место в поздние советские времена. К Олимпиаде 1980 года, а может, и раньше, вдруг начали реставрировать храмы. Храм Николы в Хамовниках красиво разукрасили, чтобы интуристы из автобусов, идущих по Комсомольскому проспекту, увидели, что приехали в Россию, где помимо прочего стоят и православные церкви.
Интересен в этом смысле пример недавнего японского телесериала о братьях Карамазовых, где японцы решили приблизить роман Достоевского к современному читателю и зрителю. Они назвали Карамазовых Куросава, дали японские имена трем братьям. А еще сценаристы решили, что современное общество не поймет религиозных смыслов романа и сделали из Алеши студента психологического колледжа, а из старца Зосимы — тьютора, работающего с трудными подростками.
Фактически это признание капитуляции религиозного перед светским. Можно ли представить себе Россию, которая таким образом капитулирует? Которая сохранит Православие как некий культурный бренд, но основой нашей жизни признает прагматический интерес? Это большой вопрос. Один раз мы уже попытались это сделать. Но Советская власть была таким проектом, в котором все же остались элементы христианского упования на осуществление справедливости в истории, правды Христовой, но без Христа.
К чему мы в итоге пришли? К краху этой власти и страны. Стоит ли нам второй раз пытаться выстраивать похожую модель? Мы возвращаемся к славянофилам сегодня потому, что пытаемся найти альтернативу секулярной культуре, которая была нам предложена, с одной стороны, советским проектом, а с другой — современным западным проектом.

Можно ли представить себе такую культуру, которая была бы одновременно и светской, и религиозной, сохраняла бы в себе важное значение Церкви и религиозного предания, но в то же время не превращалась бы в теократию, построенную по модели Великого инквизитора?
С потенциалом славянофильства связан религиозный ренессанс в русской эмиграции после революции, когда Церковь и Православие рассматривается как самоценность, а не просто как противовес Западу. В эмиграции мы получили расцвет богословской и православной мысли, расцвет, которого, может быть, даже не было в России.
Русская религиозная философия в известной своей части состоялась в эмиграции, потому что те философы, которые занимались в России теорией познания и онтологией, в эмиграции становились подлинно христианскими мыслителями. Это очень интересный феномен. Здесь Церковь и христианская вера не становятся элементами музейного сохранения идентичности. Идентичность — не самоцель, не самоценность. Если мы потеряем веру, но сохраним идентичность, хорошо ли это будет? Может, лучше сохранить веру?
— Тем не менее как славянофилы относились к философии, была ли она важна для них?
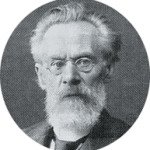
— Надо, кстати, сказать, что в русской культуре были еще и славянофилы, которые творили и действовали на рубеже XVIII и XIX веков. Это поэт, адмирал и министр А. С. Шишков, считавший, что в поэзии необходимо использовать архаизмы и избегать заимствованных иностранных слов. В 1810 году он утвердил в Петебурге кружок «Беседы любителей русского слова», Они в немалой степени повлияли и на поэтику Пушкина. Ведь Пушкин очень тонко умел использовать архаичный русский язык, включая его в современный ему русский.
Так что Пушкин тоже был в каком-то смысле культурным славянофилом, являясь в то же время и западником, проявляя вселенскую отзывчивость и умение чутко реагировать на другие культуры, о чем говорил в своей знаменитой «Пушкинской речи» Достоевский. В этом смысле Пушкин был глубоко национальным поэтом. Как известно, он даже никогда не выезжал за пределы Российской империи.
В целом, конечно, славянофильство — не просто наивная любовь к «родному пепелищу» и «отеческим гробам». Оно во многом опиралось на европейскую философию того времени, прежде всего, философию Гегеля, согласно которой различные культурные формы — это не просто некие милые сердцу вещицы, а формы и этапы становления абсолютного духа, раскрывающего себя в культуре, религии, обществе, политике, цивилизации и так далее.
Здесь славянофилы даже иногда доходили до крайностей. Например, Константин Аксаков, который был глубочайшим поклонником Гегеля (Шевырев замечал, что «Костя... был бы у нас Гарибальди, если бы не сгубил его Гегель и поняла бы Россия!»), интерпретируя «Мертвые души» Гоголя, говорил, что субстанция русской души реализует себя в любви к быстрой езде и в знаменитой гоголевской птице-тройке. Тот же Белинский ехидно замечает по этому поводу, что скоро эту субстанцию русского народа нам запекут в кулебяку и будут подавать со щами.
— А как, кстати, славянофилы относились к триаде «Православие. Самодержавие. Народность»?
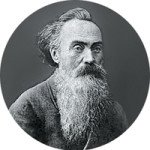
— Эта формула в 1830-е годы возникает у Сергея Семеновича Уварова, министра народного просвещения, который к славянофильству никакого отношения не имел.
— Известная исследовательница творчества Константина Леонтьева Ольга Фетисенко утверждает, что наиболее удачно характеризовать суть дореволюционного русского консерватизма можно как раз при помощи этой формулы.
— Да, все верно. Однако славянофилы были представителями скорее либеральной мысли, они консерваторами не были. Например, то стихотворение «России» Хомякова 1854 года, которое я процитировал, ходило в списках анонимным. И московский генерал-губернатор чуть ли не отдал поручение арестовать автора за его «антирусский характер». Ведь, несмотря на его мессианизм, мы видим, что это очень жесткая и критическая оценка тогдашнего общества.
Славянофилы были сторонниками просвещенного либерализма. В той же статье «О старом и новом» Хомякова мы видим отражения гегелевской концепции двуединства государства и гражданского общества, по которой необходимо становление гражданского общества в России, основанного на свободе слова, веры, мысли.
Славянофил Константин Аксаков пишет для Александра II в 1855 году, в год его восшествия на престол, «Записку о внутреннем состоянии России». Она будет опубликована лишь в начале следующего царствования после убийства Александра II. Аксаков говорит, что русский народ имеет негосударственный характер, что он не хочет власти и не хочет властвовать. Власть для славянофилов связана с понятием греха. Но взамен этого Аксаков требует от государства свобод для гражданского общества.
Вообще мы можем найти массу примеров, когда поступки славянофилов входили в прямой конфликт с государственными интересами и государственной политикой. Например, Юрий Федорович Самарин в «Письмах из Риги» критикует государственную политику в области предоставления широких прав национальным меньшинствам, а именно остзейским немцам в Прибалтике. Он считает, что права должны быть предоставлены только русским. За это его Николай I помещает под десятидневный арест и переводит на службу в Симбирскую губернию, потому что принципом национальной политики империи являлось предоставление политических свобод национальным окраинам и тем нациям, которые на этих окраинах проживают. То есть Россия вовсе не была тюрьмой народов. А славянофилы, пытаясь по своему разумению выправить этнический баланс, вступали в конфликт с государственной политикой.
Что является отличительным свойством консерватизма? Недоверие к человеческой свободе, стремление предотвратить ее негативные последствия. Не стремление законсервировать какие-то культурные или политические формы или вернуться к ним, а представление о том, что природа человека повреждена грехом, поэтому нельзя давать человеку полную и безграничную свободу (Бердяев называл ее отрицательной свободой). Политические формы должны эту свободу ограничивать и этой свободой управлять. Но как раз славянофилы были людьми, высоко ценившими человеческую свободу и отнюдь не призывавшими ею поступиться и ее упразднить.
Консерваторами будут скорее поздние славянофилы — Страхов, Данилевский, Победоносцев, Тихомиров, Леонтьев.
— Можно ли тогда сказать, что у славянофилов были проблемы с властью и что та их не очень-то и любила?
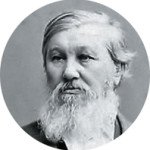
— Да, вполне. Славянофилы ведь не были государственными деятелями и чиновниками. Они были помещиками, представителями русской дворянской культуры. Например, Бердяев в своей замечательной книге о Хомякове, написанной с завистью человека критической культуры по отношению к человеку культуры органической, пишет, что Хомяков был замечательный русский барин, специалист по псовой охоте, изобретатель сеялки и паровой машины, и даже лекарства от холеры. Но этот собачник и гомеопат был, кроме того, философом, филологом, историком и богословом. Это поразительно. Бердяев пишет об этом с восхищением и завистью к цельности личности Хомякова.
Сегодня, приехав в имение Хомякова Богучарово, мы можем увидеть храм, который был построен по проекту Хомякова, и парк, ныне весьма запущенный, который был разбит по его же проекту.
Славянофилы пересекались с властью в формате общественного делания, публицистики, творчества, но не в формате политического действия.
— Они не были экспертами при власти, как мы бы сказали сейчас?
— Первые славянофилы не стремились к публичности. Хотя записка Аксакова о внутреннем состоянии России является и экспертным проектом на тему, как нужно выстраивать гражданское общество. По сути, это документ, в котором была сделана заявка на протоконституцию и предоставление свобод обществу. И это достаточно амбициозный проект, если вспомнить, что незадолго до этого за сходные идеи пять декабристов были повешены.
— Как славянофилы относились к проблеме «Россия и Европа»? Считали ли они Россию частью Европы или нет?
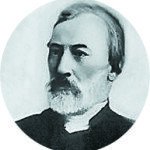
— Славянофильство никакого отношения не имеет к более позднему евразийству. Они не были евразийцами и ничего не говорили о месторазвитии, географическом факторе и т. д. Не мыслили даже в рамках этой оппозиции — Россия и Европа. То, что Россия не Европа, впервые было сказано Данилевским в его книге «Россия и Европа», где нужно читать не «и», а «или». Это 1869 год. И Киреевский, и Хомяков, и Константин Аксаков к тому времени уже умерли.
Такая постановка вопроса Данилевским была вызвана приближающимися событиями конца 1870-х годов, русско-турецкой войной, когда мы вступимся за болгар и будем стоять под Царьградом. В русском обществе господствовала идея серьезного географического передела: Константинополь должен быть наш, Святая София должна быть главным православным храмом, и, может быть, мы даже центр Империи туда переместим.
В пору Хомякова вопрос так не стоял, и, конечно, по своему культурному самосознанию славянофилы были европейцы. Еще у Достоевского в «Подростке» Версилов говорит о том, что он вернулся из Европы и поцеловал там камни на святых могилах, поклонился «осколкам святых чудес».
Проблема не в том, что Европа плоха, а в том, что в ней что-то происходит и Европа перестает быть самой собой. Об этом будет в начале 1840-х годов писать князь Владимир Федорович Одоевский в «Русских ночах». Одоевский говорит: «Запад гибнет», но мы сможем вернуть ему то, что мы сумели сохранить.
— Западники рассмеются и скажут: у вас Запад уже 200 лет гибнет и все никак не погибнет.
— Может быть, но история мыслит не десятилетиями и порой даже не столетиями, а тысячелетиями. Сколько геополитических изменений произошло в XX веке. Почему мы думаем, что XXI век будет веком стабильности и никаких изменений не произойдет?
— Насколько славянофилы были воцерковленными людьми? Были ли для них авторитетами церковные пастыри?
— Киреевский был не просто воцерковленным человеком, а участником братства, сложившегося вокруг оптинского старца Макария, по изданию и переводу святоотеческих творений. Это очень интересный и уникальный факт из русской культуры, когда вокруг Оптиной собираются умнейшие люди своей эпохи. Степан Шевырёв, профессор Московского университета, иеромонах Климент Зедергольм, филолог-классик по образованию, который был приват-доцентом Московского университета, перешел из лютеранства в православие. Они переводили авву Дорофея, св. Иоанна Лествичника, другие богословские произведения.
Сам Иван Киреевский пришел к Церкви в результате религиозного обращения, которое было достаточно нетривиальным. Его жена была духовной дочерью оптинского старца Макария. И когда муж ей зачитывал страницы из Шеллинга, она говорила, что все это она уже знает и что все это гораздо лучше описали святые отцы. Он сначала иронизировал над этим, а потом они стали вместе читать святоотеческую литературу, и Киреевский стал меняться. В то время он еще не ходил в церковь и не соблюдал постов. И как-то раз она вернулась от старца Макария и привезла ему крестик, которым его благословил старец. Иван Васильевич спросил: «А что, старец с себя снял крестик или достал откуда-то из ящика?» «С себя снял, — сказала она, — и тебе велел передать». Тогда он упал на колени и сказал: «Теперь я буду православным, потому что я положил себе, что если старец крестик снимет с себя, а не просто передаст как какой-то крест, то это знак от Бога, что я должен уверовать и стать православным».
Что значит стать православным? Тогда все русские люди были православными, потому что они были крещены в Православной Церкви, изредка там появлялись, говели Великим постом. Но одно дело православие сердца, личное и искреннее, и другое дело — некая причастность к конфессии, все равно что прописка в каком-то жилище.
Само имение Киреевских, Долбино, находилось в 40 верстах от Оптиной пустыни в Калужской губернии. За день можно было доехать на лошадях. Оптина становится в 1840-е годы духовным центром России, куда приходят не только крестьяне, но и известные люди, Гоголь трижды бывал в Оптиной пустыни. Позже Константин Леонтьев начинает ездить туда к своему духовному отцу Клименту Зедергольму. Достоевский с Владимиром Соловьевым в 1878 году посещали старца Амвросия.

— Как славянофилы и западники относились друг к другу на личном уровне? Воспринимали они друг друга как врагов или между ними были хорошие отношения?
— Никакими врагами они не были. Это были люди, которые очень уважительно и тактично относились друг к другу. Часто шутка или добрая ирония снимала идейные противоречия. Герцен, по-моему, писал, что Константин Аксаков решил быть похожим на допетровского славянина, отрастил себе бороду, но все его принимают за шведского шкипера. Ведь бороду-то Аксаков наверняка подстригал. Это уже некая ирония, которая хочет показать, что в нашем стремлении к национальным армякам, поддевкам и сапогам иногда мы не приближаемся, а уходим от того, что является подлинно национальным.
Это важный урок. Идейные противоречия не должны никогда закрывать для нас человека и его права на другую позицию.
— Почему у них это получалось?
— Существовали общие для них дворянские формы культуры. Местом, где рождается дворянская культура, является усадьба или монастырь. Местом, где рождается разночинная культура, являются пивная, съемная квартира, меблированные комнаты. Тут имеет значение сама органика культурных форм. Дворянская усадьба предполагает большой стол, где к обеду ждут гостей, куда зачастую может прийти кто угодно, за исключением заклятых врагов. Принцип «мой дом — моя крепость» — это не принцип славянофилов. Например, Хомяков общается со студентами, широко открывает им двери своего дома на арбатской Собачьей площадке, приглашает за стол.
Те же самые западники и славянофилы после пасхальной Литургии или после службы приходили в одни и те же дома, салоны, садились вместе за один стол.
— А что же делать нам? У нас нет тех усадеб. Мы в тупике?
— Да, формы культуры уважительного общения постепенно примитивизируются, а то и вырождаются. И даже те кухонные посиделки, которые еще были в советские времена и создавали свои формы коммуникации, ныне утрачены. Вспомним даже советские философские кружки. Как транслировались философские связи в советской культуре? Был круг В. С. Библера, круг Г. С. Померанца. Был Э. В. Ильенков, который приглашал к себе домой студентов и ставил им пластинки с записями опер Вагнера. Даже В. В. Бибихин приглашал к себе домой студентов.
Не будем говорить, что это наследие славянофилов в русской культуре, но тем не менее славянофилы были сторонниками открытой культуры. Они не представляли собой замкнутый орден, партию или боевой отряд. Это были люди, которые были радушными и хлебосольными хозяевами.
Что было имением Аксаковых? Знаменитое Абрамцево, которое позже стало имением промышленника и железнодорожного магната Саввы Мамонтова, покровительствовавшего многим русским великим художникам и музыкантам, например, Врубелю, Шаляпину. Органика русской усадьбы состоит в том, что она, в отличие от крепости средневекового рыцаря, самим своим устроением открыта миру. Там не было даже забора. Сейчас мы видим тоже своего рода усадьбы в элитных коттеджных поселках, где первым сооружением является трехметровый забор, который должен отгородить эту мини-крепость от остального мира.
А в усадьбах XIX века забор просто не предполагался. Это означает, что туда мог прийти кто угодно — крестьяне, гости. Да, там тоже могли отказать человеку в доме по разным причинам, например, если кто-то совершил подлость или предательство. Но не по той причине, что ты западник, а я славянофил, или что ты читаешь Платона, а я авву Дорофея. Русская дворянская культура дает нам примеры настоящей открытости и терпимости к убеждениям другого человека.
Справка "Фомы"
Славянофильство не было слепой любовью ко всему русскому и славянскому только за то, что оно русское. Прежде всего это была реакция на наступавшее обмирщение и секуляризацию тогдашней Европы, выражение тоски по Европе христианской, которая была поколеблена событиями Великой французской революции 1789 года.
Главная отличительная черта славянофильства состоит в идее, что в основе культуры лежит религия, религиозные верования народа.
Славянофилы были отнюдь не какими-то узколобыми националистами, но одними из самых культурных людей своего времени.
Их взгляды во многом опирались на последние достижения тогдашней европейской философии.
Славянофилы были, как правило, глубоко верующие воцерковленные люди, которые в то же время уважительно, корректно и в идейной полемике, и на личном уровне относились к своим главным оппонентам — западникам.