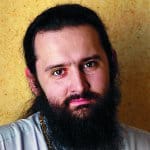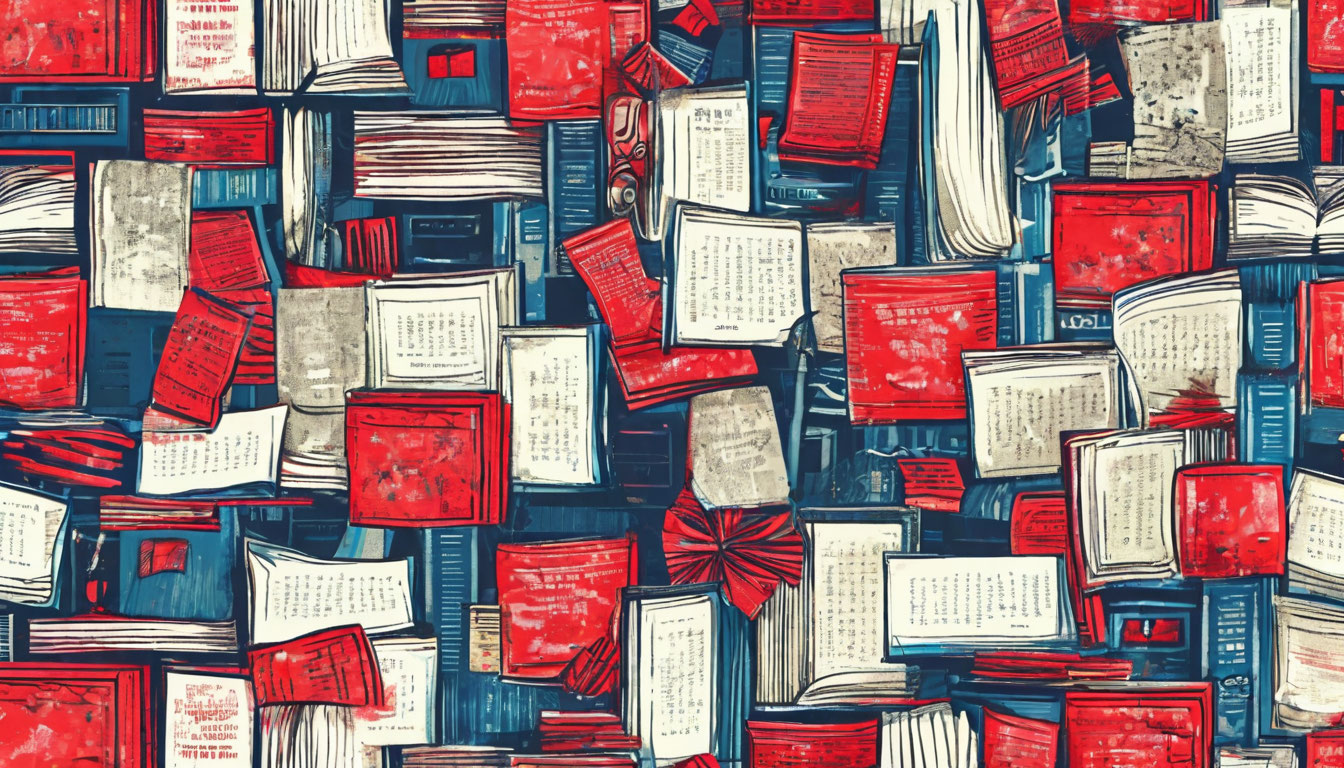«Сталкер» Тарковского — не отстраненное путешествие в Зону. Это духовное движение внутрь себя. И открытия на этом пути могут стать настоящим откровением! В чем сила этой картины? Что стоит за мрачными кадрами? И кто такой Сталкер?
Дети своей эпохи
— А что дурного в молитве? Это вы из гордости так говорите...
Согласитесь, эта реплика, прозвучавшая в фильме «Сталкер» в ответ на брезгливое «как это все срамно — унижаться, сопли распускать, молиться...», воспринимается как знаковая, определяющая героя с христианским мировоззрением. И когда мы, говоря о христианских мотивах в художественной литературе и кино, подходим к «Сталкеру»... казалось бы, вот он — готовый материал для проповеди. Но вдруг оказывается, что не все так просто. Потому что сценарий для этого фильма написан братьями Стругацкими.
Роль творчества Стругацких в отечественной культуре ХХ века огромна. Однако масштабу дарования писателей должен соответствовать масштаб их духовной ответственности за печатное слово. То, каким образом в творчестве Стругацких затрагиваются священные для христиан имена и понятия, не может быть простой небрежностью авторов — это их четко выраженное отношение к христианству.
Начиналось это с повести «Понедельник начинается в субботу»: там эпизодического персонажа-мага зовут Саваоф (одно из ветхозаветных имен Бога) с отчеством и фамилией, для которых позаимствованы имена языческих божеств. А для христианина это откровенное богохульство. Но кульминация антихристианства Стругацких — роман «Отягощенные злом, или сорок лет спустя», последнее крупное произведение, написанное братьями вместе (за несколько лет до смерти старшего, Аркадия Натановича). В романе есть такой персонаж — «Демиург», который является одновременно Богом и сатаной, причем облик его самого и его «свиты» демонстративно (с рядом аллюзий и реминисценций) списан с булгаковского Воланда и иже с ним. Один из приближенных этого сатаны-демиурга отождествлен с апостолом любви Иоанном Богословом, почитаемым в христианстве за свою девственную чистоту; у Стругацких же этому герою приписаны такие сексуальные мерзости, которые язык не повернется пересказывать. Нет смысла оправдывать хулу тем, что она произносится авторами не от своего лица, а звучит в некоем виртуальном «художественном» мире: у того, кто хотя бы с малейшим уважением относится к христианским святыням, рука не поднялась бы создавать такой виртуальный мир.
Однако напрашивающийся из сюжета «Отягощенных злом» вывод о сатанизме авторов не будет верен: во всем остальном творчестве они отстаивают общечеловеческие ценности. На самом деле они всего лишь дети своей эпохи — материалисты.
...И вдруг мы дерзаем говорить о фильме, снятом Андреем Тарковском по сценарию братьев Стругацких, как о христианском произведении. Парадокс?
Дорога чистых душ
Проще всего было бы объяснить этот парадокс тем, что Тарковский недопустимым образом исказил авторский замысел сценаристов. Такое обвинение популярно среди поклонников Стругацких. Но и тут все не так просто. Обвинители режиссера исходят из сравнения фильма с романом «Пикник на обочине». И напрасно: «Пикник» и «Сталкер» — два разных произведения Стругацких. Один из вариантов того произведения, которое стало фильмом, опубликован в сборнике избранных сценариев братьев Стругацких «Пять ложек эликсира». Да, и между этим «Сталкером» и фильмом Тарковского есть расхождения. Но опубликован вариант 1977 года, а работу над сценарием в соответствии с рекомендациями режиссера Аркадий Натанович и Борис Натанович продолжали летом 1978 г. Кстати, в статье о Тарковском «Каким я его знал» Аркадий Натанович приводит пример этих «рекомендаций»:
— ...и самое главное: Сталкер должен быть совсем другим.
— Каким же? — опешил я.
— Откуда мне знать. Но чтобы этого вашего бандита в сценарии не было.
Но из этого вовсе не следует делать вывода о противостоянии Тарковского и Стругацких: «И вообще еще до начала работы нам с братом стало ясно: если Андрей Тарковский даже ошибается, то и ошибки его гениальны и стоят дюжины правильных решений обычных режиссеров», — пишет в той же статье Аркадий Натанович. А вот что об окончательной версии сценария Стругацких сказал Тарковский: «Первый раз в жизни у меня есть мой сценарий».
Однако, хотя противостояния и не было, описанное Аркадием Натановичем единомыслие достигнуто было, видимо, не сразу. Предположения о первоначальных расхождениях авторов в видении «Сталкера» можно построить на основании различий между сценарием 1977 года и фильмом, съемки которого были закончены в 1979 году.

Сразу можно выделить самые заметные мотивы и знаки, делающие отсылку к христианскому контексту. Практически все они отсутствуют в сценарии 1977 года. Звучащие в фильме новозаветные тексты (Откр. 6.12-17 и Лк. 24.13-18); лик Христа под водой после прозвучавшего текста Откровения; кощунство Писателя, со словами «не обольщайтесь: я вас не прощу» надевшего на свою голову терновый венец, остановленное тревожным голосом Сталкера: «А вот этого не надо!»; процитированный мной выше диалог о молитве и еще ряд моментов, более или менее явно связанных с христианством. Если присмотреться к зданию, в котором находится цель героев — комната, где исполняются желания — можно увидеть явно неслучайную схожесть с православным храмом: четверик с пристройками — левая, повыше, но небольшая по площади — явно алтарная апсида, вправо уходит «трапезная» с крышей пониже. И когда путники из «мясорубки» — коридора смерти — переходят в это здание, им необходимо пройти через погружение в воду. Ассоциацию с крещением здесь можно даже не комментировать.
Однако неверным был бы вывод о том, что религиозные мотивы фильма полностью инспирированы Тарковским. В сценарии Сталкер дважды молится: в самом первом эпизоде он «одевается, затем становится на колени перед ванной и начинает молиться вполголоса»; потом, в Зоне, после отдыха во время пути, «он явно выбирает одного из двоих и не знает, на ком остановить выбор. На лице его появляется выражение растерянности. И тогда он начинает молиться, как давеча в ванной. Губы его шевелятся, но слов почти не слышно». Но нет никакого намека на то, к кому обращена молитва Сталкера. Оба эти эпизода в фильме отсутствуют. Правда, Сталкер в фильме произносит текст, начало которого так же, как и имеющийся в сценарии текст молитвы в ванной, начинается со слова «пусть», но этот текст читает голос за кадром, и неясно, обращается ли герой к Кому-то или просто размышляет: «Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное — пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна». Следующие фразы этого монолога Сталкера — известная цитата из Лао Цзы: «Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит».
То, что принято называть верой в себя, чаще является самоуверенностью, а в христианском понимании самоуверенность — одна из производных гордыни. А тут вдруг «пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети». Парадоксальность этих слов не замечается при невнимательном восприятии фильма. Но те, кого они зацепили, может быть, вспомнят о том состоянии духовной беспомощности и жажды, о котором сказано «блаженны нищие духом»... И еще одна — более прямая — ассоциация: «истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3).
Надо сказать, что и в тексте 1977 года есть эпизод, который вызывает ассоциацию с последней евангельской цитатой. Диалог в начале пешего пути по Зоне. Тарковский не включил его в фильм — может быть, потому, что для притчи он слишком прямолинеен:
Сталкер. Я всегда тут останавливаюсь. Это очень поучительно. Смотрите: оттуда (он показывает рукой за спину) сюда попасть можно. Например, тем путем, которым мы шли. Но вот оттуда (он показывает на терраску) сюда вы не попадете. Никто никогда на обратном пути сюда не возвращался. Это как время — оно всегда течет в одну сторону... Расстояние здесь, кажется, метров пятьдесят, но прямо пройти невозможно, надо идти далеко в обход. А прямо идет дорога чистых душ. Так называют ее сталкеры. [...]
Профессор. Вы хотите сказать, что физическое расстояние до терраски больше пятидесяти метров? [...] Если я брошу сейчас камешек, долетит он до терраски?
Сталкер. Вы не понимаете. Долетит отсюда камень в завтрашний день?
Профессор. Вы хотите сказать, что здесь нет пространства?
Сталкер (пожимает плечами). Откуда я знаю? Я знаю, что это — дорога чистых душ. Я знаю, что здесь ничего нельзя бросать... Я знаю, что нам с вами здесь не пройти. Физика здесь ни при чем. И геометрия здесь ни при чем... Здесь чудо!
Дальше Писатель, заявив, что у него душа «не грязнее, чем у прочих», пытается пойти по прямой. То, что с ним происходит на «дороге чистых душ», в сценарии описано так:
«Писатель почти бегом идет по склону к терраске, потом шаги его замедляются, ноги начинают заплетаться, он хватается обеими руками за голову, описывает замысловатую кривую и, шатаясь, как пьяный, возвращается обратно и садится на обломок бетона». В сценарии здесь он произносит монолог, который в фильме звучит по выходе из коридора, называемого «мясорубкой» — монолог, который он обращает к своим воображаемым собеседникам, заканчивающийся словами: «Я пытался переделать вас, а переделали-то вы меня — по своему образу и подобию...».
Глаза их были удержаны
«Мы написали сценарий-притчу. В Зону за исполнением заветных своих желаний идут модный Писатель и значительный Ученый, а ведет их Апостол нового вероучения, своего рода идеолог».
Так Аркадий Стругацкий фактически обозначает религиозный смысл этого произведения. Об отношении братьев Стругацких к христианству уже было сказано; но иным было мировоззрение Тарковского. Атеистом он не был никогда. Правда, в его «богоискательстве» не обошлось без оккультных издержек, но поиск его был искренним, и умер он через семь лет после съемок «Сталкера» христианином, причастившись перед концом. Православие было знакомо ему с детства: его отец, Арсений Александрович, был человеком верующим. Поэтому, кстати, вполне оправдан комментарий диакона Андрея Кураева (исполняет функции иностранного агента) к стихотворению Арсения Тарковского («Вот и лето прошло...»), которое в фильме читает Сталкер: рефрен «только этого мало» — это о духовном голоде, о ненасыщаемости человеческого духа земными благами. Непостижимо, как работы Андрея Тарковского прорывались через худсоветы брежневской эпохи: в его фильмах звучат слова Нового Завета.
Там, где в сценарии 1977 года Сталкер молится, в фильме он произносит строчки Евангелия от Луки, но пропускает в евангельском тексте все имена и названия:
«В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от... (Иерусалима) называемое... (Еммаус). И Сам (Иисус), приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один же из них, именем...»
Путь втроем, о котором повествует Лука, Сталкер вспоминает явно не случайно. Неужели автор хотел, чтобы Сталкер в фильме ассоциировался с Самим Христом? Такое толкование на первый взгляд кажется естественно вытекающим из прозвучавшей цитаты, но, зная о мировоззрении Тарковского, трудно поверить, что таким был замысел режиссера. Почти цинизм Сталкера в отношении к приятельнице Писателя, которую тот попытался взять с собой в Зону; его слова о себе в то время, когда Профессор готовит бомбу: «Никто не может им помочь, а я — гнида — могу!»; его отчаяние в конце — эти детали противоречат такой ассоциации, но вполне согласуются со словами Сталкера из сценария 1977 года, не попавшими в фильм: «Я никакая не судьба, я только рука судьбы». Сталкер — не Сам Христос, но тот, с кем Христос, через кого Христос может направлять других людей. Он, скорее, ассоциируется с христианским священником.
И зря Аркадий Натанович называет своего героя «апостолом нового вероучения». Для христианина Сталкер не говорит ничего принципиально нового. Просто и об авторах сценария их герой мог бы сказать эти слова из Евангелия: «глаза их были удержаны». И не о них ли звучит в последнем монологе Сталкера перефразированная цитата из бунинского очерка «Освобождение Толстого» — об «органе, которым верят»?
Орган, которым верят
Главное отличие фильма от сценария 1977 года — другой, с совершенно иным смыслом, финал. И благодаря этому у фильма совершенно иная проблематика. В сценарии Профессор отказывается от своего решения уничтожить Зону после спора между Писателем и Сталкером, заканчивающегося отчаянными словами Сталкера: «Я всю жизнь положил здесь... У меня ведь больше ничего нет... Зачем я теперь буду жить?.. Я ведь не ради денег сюда приводил... и шли они сюда не ради денег... как в церковь... как к Богу...».
И Профессор, разбирая, ломая мину, размышляет: «Наверное, сегодняшний человек действительно не умеет использовать Зону. Она попала к нам не вовремя, как и многое другое. [...] Все меняется. Все изменится.
И, может быть, через века люди дорастут до Зоны и научатся извлекать из нее счастье, как научились извлекать энергию из каменного угля. Или произойдет такое потрясение, такая катастрофа на земном шаре, что у нас не останется никаких надежд на спасение, кроме Зоны. Пусть мы еще не успеем пользоваться ею, но у нас будет надежда. Человек может обойтись без всего. Но надежда у него должна быть всегда».
Звучащий в фильме голос жены Сталкера читает строки из Откровения Иоанна Богослова, повествующие о Дне Гнева Господня, когда Агнец снимает шестую печать (это место традиционно понимается как пророчество об экологических катастрофах в конце земной истории). Они вносят в ткань фильма ощущение уже произошедшей или происходящей «катастрофы на земном шаре», когда остается последняя надежда на спасение. Причем в контексте Апокалипсиса само понятие спасения может звучать только как христианское, сотериологическое — а не в значении спасения человечества от бедствий в земной истории.
В фильме нет размышлений Профессора о необходимости надежды для будущего человечества. И бомбу он разбирает по совершенно другой причине.

Лейтмотивом фильма становится проблема веры. Еще в середине пути в уже приведенном мной монологе Сталкера звучат слова «пусть они поверят». Другой монолог Сталкера, звучащий у самой Комнаты (которая является целью пути), есть и в сценарии 1977 года, и в фильме, но в фильме он больше на одну фразу: «А главное — верить...». Профессору, собирающемуся заложить бомбу, Сталкер кричит: «Ведь вы же пришли! Зачем же вы убиваете веру?!» И дальше — кульминация духовной трагедии героев. На пороге Комнаты Писатель вдруг заявляет: «А потом... Кто вам сказал, что это чудо существует на самом деле?»
Именно после этих слов Профессор, задумавшись, со словами «Тогда я вообще ничего не понимаю... Какой же вообще смысл сюда ходить?» — начинает разбирать свою бомбу. По единственной причине: никакого чуда здесь нет, и взрывать это место незачем...
А вот монолог Сталкера, которого нет в сценарии 1977 года. В своей квартире, лежа сначала на полу, потом в кровати, Сталкер разговаривает с женой:
Сталкер. А еще называют себя интеллигентами. Эти писатели, ученые! Они же не верят ни во что. У них же орган этот, которым верят, атрофировался! За ненадобностью. Боже мой, что за люди...
Жена. Успокойся, они же не виноваты. Их пожалеть надо, а ты сердишься.
Сталкер. Ты же видела, у них глаза пустые. Они же ведь каждую минуту думают о том, чтобы не продешевить. Чтобы продать себя подороже. Чтобы им все оплатили, каждое душевное движение. Они знают, что не зря родились, что они призваны. Ведь живут только раз. Разве такие могут во что-нибудь верить? Никто не верит, не только эти двое. Никто. Кого же мне водить туда? Господи... А самое страшное, что не нужно это никому. Никому не нужна эта Комната. И все мои усилия ни к чему.
Жена. Ну, хочешь, я пойду с тобой туда? Думаешь, мне не о чем будет попросить?
Сталкер. Нет. Это нельзя.
Жена. Почему?
Сталкер. Нет-нет. А вдруг у тебя тоже ничего не выйдет...
Слова об «органе, которым верят» обычно почему-то цитируются со ссылкой на Ивана Бунина. И эти слова действительно из бунинского очерка «Освобождение Толстого», но только их автор — не сам Иван Алексеевич. В очерке приведены воспоминания писательницы Екатерины Михайловны Лопатиной, которая пересказывает слова своего брата Владимира (оба они были дружны с Львом Николаевичем): «Толстой переживает ужасную трагедию, которая заключается, прежде всего, в том, что в нем сидит сто человек, совсем разных, и нет только одного: того, кто может верить в Бога. В силу своего гения он хочет и должен верить, но органа, которым верят, ему не дано».
Герой фильма говорит об отсутствии веры иначе. Ведь если бы просто «этот орган» не был дан кому-то свыше, на этом человеке не было бы вины, не было бы ответственности. На самом деле все страшнее. «У них орган, которым верят, атрофировался за ненадобностью». В отчаянии Сталкер даже самого близкого для себя человека боится привести в Комнату: а вдруг и у нее не окажется веры... Когда ее голос читает строки Апокалипсиса о снятии шестой печати, после этих страшных слов звучат странные смешки. Что означает этот смех?
Радость о приближающемся Втором Пришествии — или наоборот, усмешка неверия? Не знаю. Но после слов Сталкера о том, что никто не верит и некого больше водить в Комнату, становится понятно, какое значение в фильме имеют апокалиптические мотивы. «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?..» (Лк. 18, 8).
Для работ Тарковского характерна символика чередования черно-белого и цветного изображения. Фильм «Андрей Рублев» черно-белый; и после этого черно-белого мира вдруг потрясают зрение насыщенные краски рублевских икон. Заканчиваются кадры с иконами, и снова появляется дождливый пейзаж реального мира — но теперь и он цветной. Это уже иное видение мира — зрением, очищенным через восприятие духовной реальности.
В обычном мире фильма «Сталкер» тоже нет цветов: все даже не черно-белое, а какое-то... безнадежно-бурое. А Зона цветная. Вот он — мир настоящий, подлинный. Но и в том мире, который вне Зоны, есть цветные кадры. Это кадры с дочерью Сталкера, Мартышкой. Она не может ходить: у всех сталкеров дети рождаются с врожденными физическими недостатками. И вот, в финале фильма, после отчаяния Сталкера, потерявшего веру в людей, после пронзительного монолога его страдающей и любящей жены («Вы теперь, наверное, поняли — он же блаженный...»), Мартышка, дитя Зоны, сидит за столом и читает Тютчева. И двигает взглядом стаканы по столу.
Не стоит здесь рассуждать о нашем отношении к телекинезу в реальном мире: в художественном мире «Сталкера» проблема оккультизма не поставлена, здесь это просто проявление сверхъестественной силы, присущей девочке. Пока в окружающем мире атрофируются остатки веры, пока впадает в отчаяние сам Сталкер, сила Зоны начинает действовать через ребенка. И девочка-инвалид, беспомощное существо с чистой душой, спокойно постигает данную ей силу.
«Если не обратитесь и не будете как дети...»
В статье использованы фотографии со съемок и кадры из фильма «Сталкер».
А. и Б. в киноформате
Критики часто обращают внимание на парадокс: чем меньше кино по книгам Стругацких походит на текст-первоисточник — тем лучше оно получается.
Классические примеры: два совершенно не похожих друг на друга фильма — музыкальная комедия-сказка «Чародеи» и философская притча «Сталкер». Обе эти работы прекрасно известны зрителю, их помнят, любят и ценят, но они имеют лишь отдаленное сходство с книгами-первоисточниками.
С другой стороны, максимально приближенные к тексту «Трудно быть богом» и «Отель «У погибшего альпиниста» — прошли на экранах страны почти незамеченными.
Сегодня после паузы, возникшей в 90-е годы, режиссеры вновь обращаются к творчеству Стругацких. Так, Константин Лопушанский выпустил в 2006 году фильм «Гадкие Лебеди», Алексей Герман готовит к выходу новую экранизацию «Трудно быть богом», а Федор Бондарчук приступил к съемкам фильма по роману «Обитаемый остров».
На сегодняшний день фильмография братьев Стругацких выглядит следующим образом:
- «Сталкер», 1979 год, Мосфильм, 163 минуты.
- «Отель „У погибшего альпиниста“», 1979 год, Таллинфильм, 84 минуты.
- «Чародеи», 1982 год, Одесская киностудия по заказу Гостелерадио, 147 минут.
- «Письма мертвого человека», 1986 год, Ленфильм, 88 минут. Борис Стругацкий выступил здесь исключительно как один из соавторов сценария, но именно этот фильм принес ему Государственную премию СССР.
- «Дни затмения», СССР, 1988 год, Ленфильм и киностудия «Троицкий мост», 133 минуты. Вольная экранизация книги «За миллиард лет до конца света».
- «Трудно быть богом», 1989, киностудия «Аллилуя» (ФРГ), киностудия им. А. Довженко (СССР), 135 минут.
- «Искушение Б», 1990, Киностудия «Латерна», 84 минуты. Экранизация повести «Пять ложек эликсира».
- «Гадкие лебеди», 2006, «Proline-film», «CDP FILMS» (Франция) при поддержке Роскультуры и участии Горбачев-фонда, телеканала «CNC», Международного Зеленого Креста, 105 минут.
- «Трудно быть богом», 2013, режиссер Алексей Герман, 177 минут.
В этот список не включены две картины, снятые в 90‑е годы за рубежом, но так и не вышедших в широкий прокат. Речь идет о чешской экранизации книги «Малыш» и польском телеспектакле «Отель у погибшего Альпиниста». Еще несколько картин по книгам Стругацких даже не были начаты, хотя к их съемкам активно готовились.