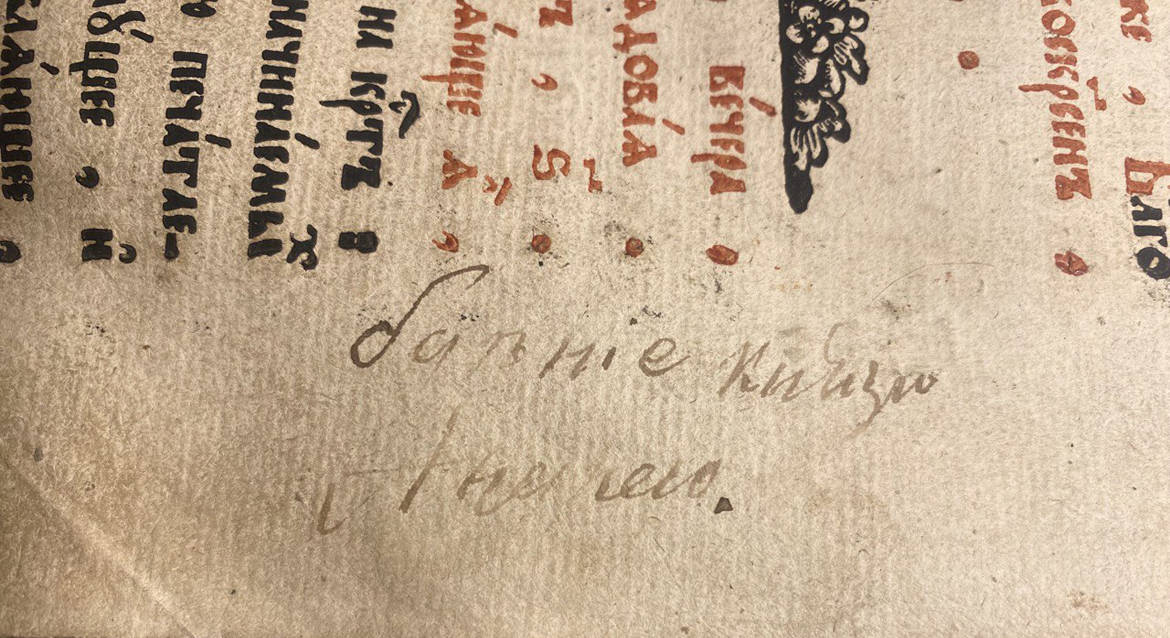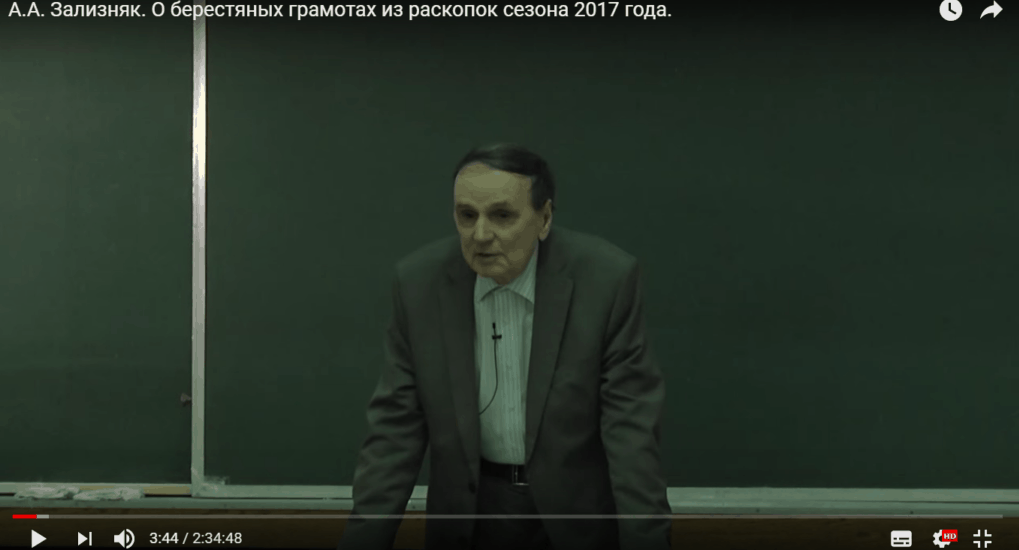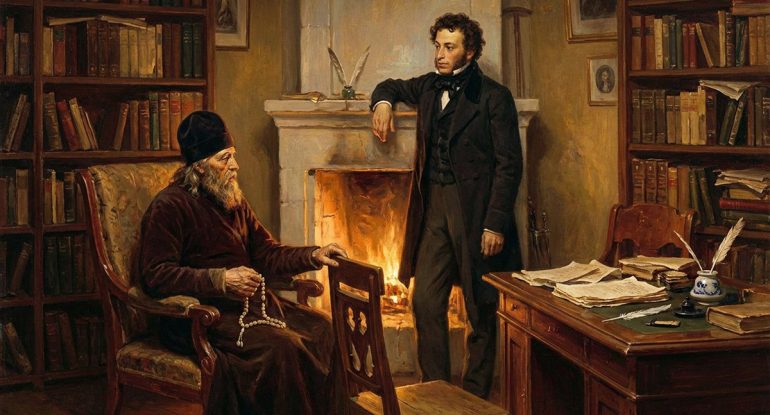Мы живем в эпоху торжествующего дилетантизма. Достаточно включить телевизор, чтобы убедиться: любое, самое вздорное и дикое мнение может быть вынесено на публику и, увы, найдет немало сторонников. Причем это происходит не только с политикой и экономикой — в науке доморощенных ниспровергателей не меньше. Но если в области точных и естественных наук их невежество все-таки более заметно образованным людям, то в науке о языке дело обстоит куда хуже. Здесь подделка под науку очевидна далеко не всякому человеку с высшим образованием.
А подделок много. Иногда это, казалось бы, вполне «невинные» гипотезы о происхождении каких-то слов, иногда — версии о взаимном влиянии разных языков. Эти наивные гипотезы почти всегда просто ошибочны, они немедленно провалились бы при сопоставлении их с объективными фактами. И они не столь уж безобидны. Любительская лингвистика часто служит теоретическим обоснованием довольно опасных идей, большей частью крайне националистических, иногда — имеющих оккультно-языческую окраску. Наиболее известный пример — пресловутая «Велесова книга», якобы написанная новгородскими волхвами в IX веке и якобы случайно найденная в 1919 году. Существует немало людей, которые размахивают этим текстом, как знаменем, — и далее говорят о великой языческой славянской культуре, уничтоженной злобными христианскими мракобесами... Любой профессиональный филолог понимает, что это подделка, причем весьма грубая — сочинитель «Велесовой книги» представлял себе язык древних славян просто как смесь современных языков: русского, украинского, польского, чешского и так далее. Но что характерно — мне после лекций никогда не присылали записок: «Скажите, “Велесова книга” — это подлинное произведение или подделка?». Всегда спрашивали: «Каково Ваше мнение о “Велесовой книге”?». Мелочь, а как показательна!
Другая идея, для которой используются самодельные лингвистические подпорки, — это превосходство русского языка над всеми остальными. Дескать, латынь, английский, немецкий, французский (равно как и другие языки) произошли от русского. И этруски — «это русские». Очень модная формула. В одном из таких сочинений по поводу этрусских надписей говорится:
«...Из этих надписей следует, что Москва существовала не только до Рима, но именно по ее приказу этруски воздвигли этот город и назвали его в духе русских традиций Мир...»
Потребность в подобных мифах обычно возникает у тех народов, которым в ходе истории приходилось страдать от более могущественных соседей и которым нужны какие-то дополнительные моральные поводы для самоутверждения. Печально, что такой комплекс неполноценности проявляется у российских авторов. Тут проблема, конечно, уже не в филологии...
Но в чем же секрет такой популярности любительской лингвистики? Почему именно ее используют для обоснования национальной исключительности?
Причин много. Начну со школы — там обучают грамматике и орфографии родного языка и элементам иностранного, но не дают даже самых первоначальных представлений о том, как языки изменяются во времени. И когда у людей появляются естественные вопросы: почему похожи по звучанию такие-то два слова? откуда произошло вот это слово? — они пытаются найти ответы путем собственных размышлений и догадок. Свободное владение родным языком порождает у них иллюзию, что достаточно немного призадуматься — и ответ найдется. К примеру, откуда взялось слово «помада»? Оно ведь похоже на слово «помазать» — значит, это древнее русское слово. Просто «з» заменилось на «д». Хотя достаточно заглянуть в словарь, чтобы узнать — слово это французского происхождения, у него корень pomme (яблоко) и суффикс -ade (для сравнения: баллада, баррикада, блокада...).
Не снимаю доли вины и с нас, лингвистов. Мы мало занимаемся популяризацией своей науки. В частности, этимологические словари, из которых можно узнать происхождение слов, существуют только в научном варианте, где терминология и аппарат недоступны непрофессиональному читателю. Зато такого читателя подкупает простота и живость псевдонаучных рассуждений. Если ему, к примеру, скажут, что первый слог в слове «разум» и конец слова «хандра» — это имя египетского бога Ра, он может с легкостью в это поверить.
Впрочем, если это происходит на уровне шутки, игры — беспокоиться незачем. Игры со словами — нормальная функция языка. Но вот когда любитель становится убийственно серьезен, когда заявляет, что сделал открытие, разгадал происхождение какого-то слова — здесь уже начинается псевдонаука.
Обычно лингвист-любитель отталкивается от фонетического сходства слов и делает из этого далеко идущие выводы. Скажем, английское слово poop — «корма» сходно по звучанию с русским «пуп». И вот любителя осеняет «догадка»: ведь если посмотреть на корабль сзади, то корма будет где-то посредине его высоты, примерно как пуп... Это пример, где полная произвольность «догадки» очевидна. Но есть и более тонкие случаи, когда слова разных языков не только звучат похоже, но и значение имеют одинаковое — а между тем никакой связи между ними нет. Таковы, например, итальянское strano «странный» и русское «странный», английское bad «плохой» и персидское bad «плохой».
За время существования исторической лингвистики в этой науке было сделано два главных открытия: во-первых, было установлено, что все языки со временем изменяются; во-вторых, был открыт основной принцип их изменения, состоящий в том, что каждое звуковое изменение затрагивает не отдельное слово, а все слова языка, имеющие определенную структуру.
На протяжении веков и тысячелетий слова изменяются очень сильно. Например, латинское слово calidus «горячий» в современном французском языке превратилось в то, что пишется как chaud, а произносится как «шо». Другой пример: древнеанглийское hlafweard (буквально: «хлебохранитель») за тысячу лет превратилось в lord. Поэтому сходство слов в современных языках само по себе еще никоим образом не доказывает их единого происхождения.
Лингвисты-любители, ничего этого не зная, выдают свои фантазии за что-то новое в науке, хотя в действительности они просто повторяют наивные рассуждения своих предшественников XVIII века. Это похоже на то, как если бы современный человек принялся рассуждать о теплороде, о четырех стихиях, из которых состоит любое вещество, не подозревая об атомах, молекулах, химических элементах... Степень невежества точно такая же.
К сожалению, современные дилетанты не только не знают науки, но зачастую и не стремятся знать. Традиционную науку они ниспровергают — как «бездушную», «не заботящуюся о чувствах народа» и т. п. В печати уже встречаются формулировки вроде:
«Истина достигается не точной наукой, а общественным согласием».
В сущности, именно эту идею внушают радио и телевидение, когда проводят голосования по самым разным вопросам. Причем это соответствует собственным интересам СМИ — ведь в таком случае именно они, а не наука, становятся держателями истины.
Словом, проблема куда масштабнее, чем отдельно взятый бред в отдельно взятых головах. Доморощенная лингвистика — это лишь один из симптомов болезни. Там, где критерий серьезного научного анализа отброшен, неизбежно начинают главенствовать мотивы вкусовые, эмоциональные и в особенности идеологические — со всеми вытекающими отсюда общественными опасностями.
Фото Владимира Ештокина