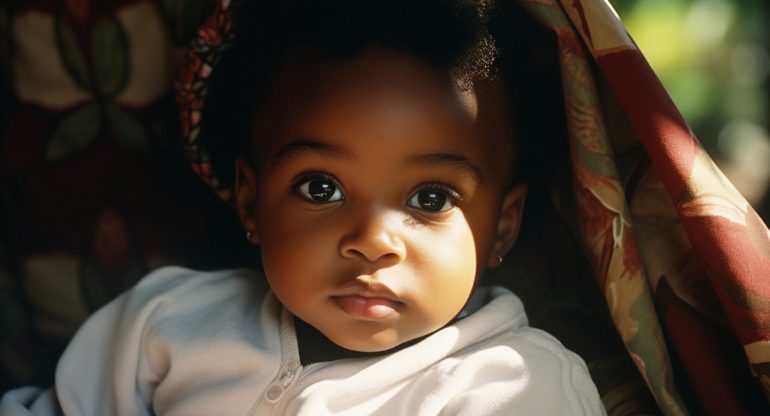Решила я, как «бывшая послушница», ненароком не отстать от череды каминг-аутов... Строго говоря, я не была, конечно, «официальной» рясофорной послушницей, но долго жила при монастырском сестричестве с намерениями самыми суровыми.
Решила я, как «бывшая послушница», ненароком не отстать от череды каминг-аутов... Строго говоря, я не была, конечно, «официальной» рясофорной послушницей, но долго жила при монастырском сестричестве с намерениями самыми суровыми.
Приехав летом на неделю в небольшой провинциальный монастырек первокурсницей-заочницей, я так и осталась почти на три года. Лишь несколько раз уезжала домой в соседнюю область и еще несколько – в Москву на сессию. А в остальном безвылазно «окопалась» в сестричестве при монастыре.
Это был отдельный небольшой домик с русской печкой, в котором частью останавливались паломницы и благодетельницы, а частью жили девушки «из городских» – тех, кого не было смысла посылать на работы в коровник, разве что курам на смех. И мы помогали в основном в трапезной, учились читать на клиросе и имели возможность бывать практически на всех службах утром и вечером.
Нет смысла писать про «восторг неофита», помноженный на дивную красоту местной природы. Понятно, что юная горожанка из нецерковной среды чувствовала себя здесь наследницей рая и начинательницей пути нового, неизведанного, но несомненно – высокодуховного и «подвижнического».
Впрочем, я не хочу ерничать. Настрой наш в сестричестве был искренним – настолько, насколько мы сами осознавали свои мотивы. Все действительно искали подвигов: чтобы хоть пару дней совсем не есть в начале Великого поста, чтобы быть на службах ежедневно, а к обычному мытью посуды прибавить что-то особое: генеральную уборку, непрестанную молитву, чистку картошки под пение «Богородице, Дево, радуйся...». Чтобы, конечно, никогда не смотреть телевизор и постоянно «глотать» душеполезные книги, чтобы просить прощения, даже когда хочется скроить презрительную гримасу...
Быстро возник серьезный вопрос о монашестве. Стало вдруг очевидно: вот он – путь прямой и настоящий. Ну, какое могло быть сравнение между текстом Аввы Дорофея и «Метаморфозами» Овидия, которые приходилось читать к зачету по «античке»? Никакого сравнения! Я начала «чудить»: мол, «Илиаду» почитаю, а «Дафниса и Хлою» – ни за что, «Метаморфозы» – еще ладно, а «Науку любви» – ни-ни. Никакой «мирской грязи», и пусть хоть убивают меня на этом журфаке! Исповедницей буду – не меньше.
Я стремительно разочаровывалась в выбранной специальности: мол, зачем мне эта «суета сует». Священник тогда не спешил сдернуть меня на землю, соглашался: может, оно и верно – зачем в глухом монастыре журналистика. А о том, чтобы девушку выпроводить назад в полный соблазнов мир – и речи не было.
Смешно было даже представить себя снова дома, в джинсах, сидящей в какой-нибудь шумной компании друзей-толкиенистов. Студенческая жизнь, разумеется, тоже казалась слишком «рассеивающей»: посиделки в общаге, прогулки по Москве, знакомства в студенческом буфете, «неблагочестиво» прокуренные туалеты, страшный «фольклор» про преподавателей... Но это был престижный вуз, и бросить его одним махом духу не хватало. Зато я была рада любому поводу немного посаботировать.
Аккурат накануне третьей сессии я с еще одной девушкой поехала «на стажировку» в крупный монастырь. До экзаменов чуть больше недели, а у меня вместо внимательного чтения учебников – вдохновенное мытье посуды и чистка моркови.
То есть, вдохновенным это было первые два дня. На третий - мы вдруг осознали, что «командировка» проходит немного не по сценарию. На службе толком побыть не удается: порой уже во время чтения часов подходит сестра с «благословением матушки» топать на кухню или в огород. В обед, стоит закрыться в келье с душеполезной книжкой, снова зовут на кухню – чистить каких-то карасей. Караси живые, их целая бочка, а я в жизни не держала в руках трепыхающуюся рыбу... Вечером нужно начистить почти полмешка моркови, а семь розовых кустов под окном нас, как кажется, не отправляют сажать лишь потому, что не сезон...
Говорят, во многих монастырях слишком «эксплуатируют» приезжих. Мы оказались именно в таком, но сегодня я очень рада этому. Вообще-то, с нас там здорово посбили налет романтического «подвижничества», выражавшегося в любви к красивым службам да умным книжкам. Показали, как мы «усвоили» прочитанное в этих самых книжках.
Ведь что мы сделали на пятый день, когда поняли, что сидим безвылазно на кухне и даже еще не осмотрели ни этот древний монастырь, ни его окрестности? Мы спросили, когда приезжает монастырский духовник – и поспешили к нему за благословением на осмотр достопримечательностей. А когда на обратном пути нас перехватили с благословением от матушки – тут-то мы и заявили радостно, что, мол, нам уже батюшка дал другое благословение! «Мы в домике», в общем. И ведь все как в древних книгах, «по послушанию» – не придерешься.
Конечно, примерно в этом месте по закону жанра я должна воскликнуть патетически: «Даешь свободу паломникам! Доколе монастыри будут ценить рабский труд, а не молитву?!» Но я не воскликну. Первую причину указала выше – монастырь без физических трудностей просто не открыл бы мне вовремя глаза на мою «готовность» к монашеству.
Во-вторых... это прозвучит странно, но практически все мои навыки практической жизни, пригодившиеся потом в семье, я вывезла из монастыря. Впервые оказавшись в родном сестричестве, я была восемнадцатилетней дылдой, не умеющей не только готовить, но даже газовую плиту включать – у нас была электрическая. Дома вместо освоения элементарных бытовых навыков я больше бегала по всевозможным кружкам и школам. Так что монастырской жизни я благодарна как череде полезнейших и совершенно бесплатных мастер-классов.
С другой стороны – противопоставление паломниками «высокой молитвы» и «черного труда» во многом надумано. Раньше ведь паломничество в принципе было неотделимо от тяжелого подвига пешей ходьбы «за тридевять земель». Готов – идешь, не готов – сидишь дома и не воображаешь себя высокодуховным «подвижником». Сегодня можно за пару часов на машине с кондиционером сделаться «паломником», побывать в монастыре. Гордости прибавится, пользы – не очень. После такой поездки «я молился» звучит примерно как «мы пахали». Ведь если нет желания потрудиться – остается всего лишь экскурсия. Это не плохо – просто другой жанр.
И здесь же, в «суровой» обители, я наконец-то смогла немного взглянуть со стороны на свое возможное будущее. Дело в том, что в нашем монастырьке молодых послушниц практически не было (кроме тех, кто проживал в домике сестричества). Было несколько старушек, несколько женщин средних лет и лишь две молодых инокини. Обе были настолько образцовы и ангелоподобны, что глядя на них оставалось лишь мечтать о постриге вот прямо завтра.
Матушка N была абсолютно точной копией молодой Елизаветы Феодоровны – только в очках. Собранная, серьезная, красивая. Неземная. И конечно, я частенько представляла себя тоже в апостольнике, строгом подряснике... когда-нибудь скоро.
А здесь, в стенах древнего подмосковного монастыря, было очень много молодых послушниц, инокинь и даже уже монахинь. И здесь же, сидя вечером над мешком картошки с кем-то из местных послушниц, мы вдруг услышали несколько совершенно диких для нашего «необстрелянного» уха историй: кто-то из послушниц «сбежал» с монастырским водителем, кто-то уехал, уже будучи в иноческом постриге. Как так? Мы слушали и про себя осуждали неразумных сестер.
Но вот кончилась «командировка». Кончилась следом и сессия – явно чудом я получила несколько пятерок по принципу «Остапа несло». Только зачет по «соблазнительной» античной литературе снова так и остался не сданным. Я с гордостью «исповедницы» вернулась в родной монастырь. А там пришло время выбора.
Сестричество наше несколько поредело, и духовник предложил оставшимся перебираться жить в монастырский корпус. Но в каком качестве? Надо было определяться. С журналистикой я готова была порвать окончательно, с высшим образованием – нет. Решено было перейти на заочное отделение рязанской кафедры теологии. И... стать «официальной» монастырской послушницей, готовиться к постригу?
Внутренне я заметалась. Истории про инокинь, сбегающих из монастыря с водителями, не давали покоя. Я начинала понимать, что природа способна «подстеречь за углом». А не захочу ли и я «срочно замуж» лет через десять? И... что тогда? Слава Богу, наш духовник понимал, что сам в Церкви – ненамного дольше сестер. Он не пытался давить и навязывать «слепое послушание», рекомендовал совет с еще одним батюшкой.
И вот я в сомнениях и ужасе задаю вопрос уже духовнику духовника, описываю свою ситуацию, он кивает...
- Простите, Лена, а Вам сколько лет?
- Двадцать...
- И вы хотите учиться на теологии заочно?
- Да, и жить при монастыре.
- Знаете, жить при монастыре Вам и через пять лет не поздно будет. А вот теология заочно – это в Вашем возрасте не образование.
И я поехала поступать на очное отделение в Рязань. «По послушанию», но на самом деле была несказанно рада. Ведь одно дело – романтически мечтать о монашестве «когда-нибудь», и совсем другое – оказаться в монастыре уже серьезно, навсегда. И с сердцем совершенно неготовым, полным только розового флера да цитат из святых Отцов.
А через два года учебы я вышла замуж. Можно сказать, что мой муж – тоже «бывший послушник». (Большой труд – воздержаться и не налепить здесь смайликов). В его прекрасном монастыре никогда не постригали поспешно – там молодежь могла проходить «искус» даже больше десяти лет.
И я не была единственной «бывшей послушницей» в нашем маленьком монастыре. По благословению духовника сестричества вышла замуж одна из наших, потом кто-то тоже разъехался: учиться, работать в Москву... Поначалу они казались как бы «отступницами», искусившимися мирской долей. Духовник сестричества высказывал мягкое, но неодобрение. А сегодня мы общаемся со всеми, общаемся и с духовником теперь уже бывшего сестричества. И видно, что каждая в итоге оказалась на своем месте. Многие приезжают на праздники в монастырь, и монахини «старой закалки» всегда встречают очень тепло...
Игуменья моего монастыря, встретив нас с мужем на престольном празднике, была откровенно рада. Подарила книгу митрополита Антония Сурожского о браке...
Сегодня я думаю, что «искушением» для нас был не мир – искушением была мечта о монашестве – каким мы его себе представляли. Изящный апостольник, летящая наметь клобука, очи долу, восхищенные взгляды прихожан... А впереди – быть может и игуменство (почему нет?) в каком-нибудь новооткрытом монастыре.
Видимо, по молитвам святого, у мощей которого мы бывали на службе каждый день, Господь не дал нам слишком заиграться и спутать истинную готовность уйти в монастырь с нашей романтической восторженностью и банальным тщеславием...
Страшно самочинно выйти из монастыря и бросить монашество, имея к нему явное призвание. Но еще более, может быть, страшно оказаться в нем случайным человеком, бездумно клюнувшим на внешние атрибуты и подзуживания собственной гордости. Тогда есть риск однажды сменить розовые очки на беспросветно-черные и начать «крестовый поход» против тех, из-за кого, как кажется, «жизнь прошла мимо»...
На заставке фрагмент фото Владимира Ештокина