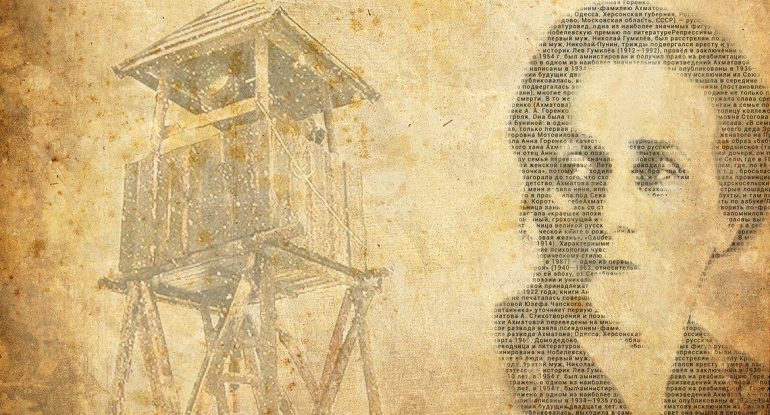В посмертной литературной судьбе Александра Твардовского (1910–1971), для которого текущий год оказался юбилейным, случилось одно удивительное событие. Оно, кстати, произошло на его родной смоленской земле не в самые благоприятные для нашей новейшей истории, экономики и культуры времена, и подобного происшествия, кажется, не ведает ни одна посмертная писательская судьба.
Двадцать лет тому назад, народный художник России Альберт Сергеев открыл в центре Смоленска памятник своему великому земляку. Но – не только ему одному, ибо на постаменте поместился не один, но два человека: сам поэт и рядом – вымышленный персонаж его поэзии, солдат Василий Теркин. Имена автора и его героя выбиты на гранитной плите одно над другим – буквами одинакового размера. И больше никаких дат или пояснений, ничего. Просто – два имени. А над ними, присев на брёвнышке, беседуют два молодых, бывалых мужика. Они, как видно, давно и прочно знакомы. Вот, один, в накинутой поверх гимнастерки шинели, перебирая ремешок полевой сумки, внимательно слушает другого. А другой, положив ногу на ногу, и, придерживая локтем гармонь, доверительно ведет какой-то нехитрый рассказ, и, обращаясь к собеседнику, словно бы ищет подтверждения своим словам: «Сам посуди, ты ж понимаешь…»
Увидев эту скульптуру и прочитав эти имена, я вспомнил, что подобная точность и простота были запечатлены в визитной карточке автора «Капитанской дочки». На картонном прямоугольнике только два слова: «Александр Пушкин», и всё тут. А что ещё?
Александр Твардовский и Василий Теркин – два равновеликих, легендарных, бессмертных имени в нашей словесности. Два родных друг другу человека. Нам трудно поверить, что один из них создан воображением другого. Очень уж они настоящие.
И оба – народные.
«Нет, и не под чуждым небосводом И не под защитой чуждых крыл, Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был…», – проговорила Анна Ахматова в своем позднем автоэпиграфе к «Реквиему». Подступаясь к своему бойцу в стихотворном рассказе, который как и «Реквием», написан там и тогда (то есть не ретроспективно, не по следам событий, но – по-библейски – «во время о́но»), – Александр Твардовский сказал не менее просто и ясно:
С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной
Не шутя, Василий Тёркин,
Подружились мы с тобой.
Я забыть того не вправе,
Чем твоей обязан славе,
Чем и где помог ты мне…
В ноябре 1957 года, уже давно ставший народным поэтом, уроженец Петербурга и житель подмосковного Переделкина, знаменитый Корней Чуковский записал у себя в дневнике: «Был у меня сегодня Твардовский… У меня такое чувство, будто у меня был Некрасов. Я робею перед ним, как гимназист. “Муравия” и “Теркин” – для меня драгоценны, и мне странно, что такой ПОЭТ здесь у меня в Переделкине, сидит и курит, как обыкновенные люди…»
Поэма о бойце – вершина русской военной лирики, предельно расширяющая само это понятие, которое, напомню я себе, отсылает нас не только к античным временам, но и к ветхозаветным, – к псалмам и к Песне Песней. Личностное, своё и только своё переживание поэт – не перенес, но разделил со своим народом.
Разделил, бережно собрав его – этот народ – в фигуре честного, чистого, находчивого и остроумно-доверчивого солдата. Такого, который ежедневно кладя «живот свой за други своя» – и в огне не горит, и в воде не тонет. Он не может умереть, потому что заведомо бессмертен, как бессмертен ежедневно совершаемый им подвиг. Соединить, свести, сфокусировать то, о чем идет сейчас речь – в одной человеческой фигуре, сделать это такими средствами, когда и средств-то самих не видно, и при этом еще и не сфальшивить ни в одном звуке – почти невозможно. Твардовскому это, с Божьей помощью удалось: отмеренный ему талант не подкачал, невероятные усилия, затраченные на написание поэмы – оправдались с лихвой.
Конечно, пока жив русский язык, пока жива сама русская поэзия, мы не забудем и других его стихотворных шедевров, посвященных военной теме – скажем, «Я убит подо Ржевом…» или пронзительного маленького этюда, написанного, как я вижу, глядя на дату, в год рождения автора настоящих заметок.
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же...
Переписывая сюда эти невероятные строки о не отпускающем, – я вдруг вспомнил свои младенческие годы. Раннее утро Дня Победы. Мы гуляем с бабушкой в соседнем дворе, я пинаю свой мячик и он отлетает к катушке из под трансформаторного кабеля, которая служит столом для наших дворовых доминошников. Я бегу и получаю свой спортивный снаряд от одного из играющих: развеселый взгляд, дымит беломорина, видавшую виды майку оттягивает орден Красной звезды. …Если он закончил войну в двадцать пять, то тогда, во дворе моего детства, ему было около полтинника. Сейчас я понимаю, что ныне приблизился к возрасту того фронтового мужика с моим мячом в руке. И размысливаю теперь, что, скорее всего, я видел именно его – Тёркина. Дядю Васю Тёркина. «Ну, беги, сынок, играй. А ты уже ходи, Сергеич, не тяни ты кота за хвост».
За три года до своей смерти, уже давно перешедший на малую стихотворную форму, Твардовский сложил небольшое исповедальное обращение к себе самому, но говорил и думал в этих стихах не только о себе:
…С тропы своей ни в чем не отступая,
Не отступая, быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.
Как славно думать, что в эти дни читатели поэта в Смоленске возлагают свои цветы им обоим: Василию и Александру. Тёркину и Твардовскому.
Фото wikipedia.ru