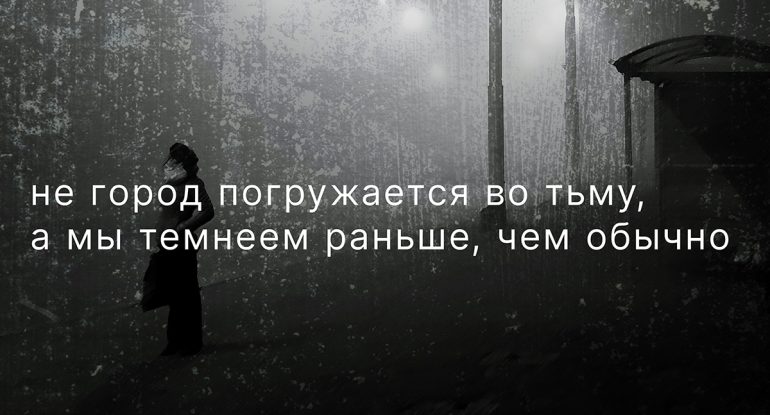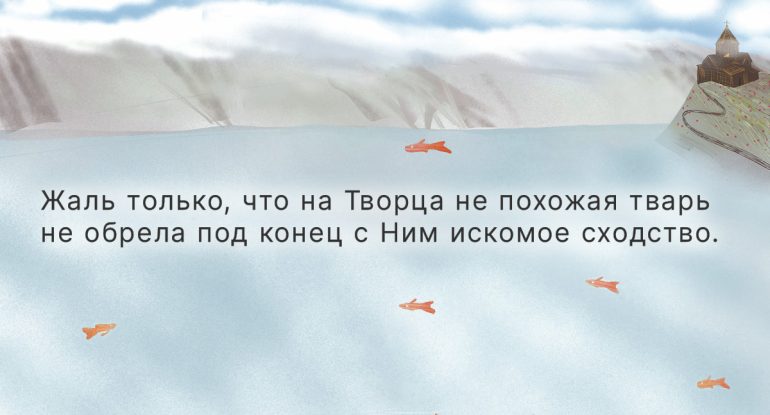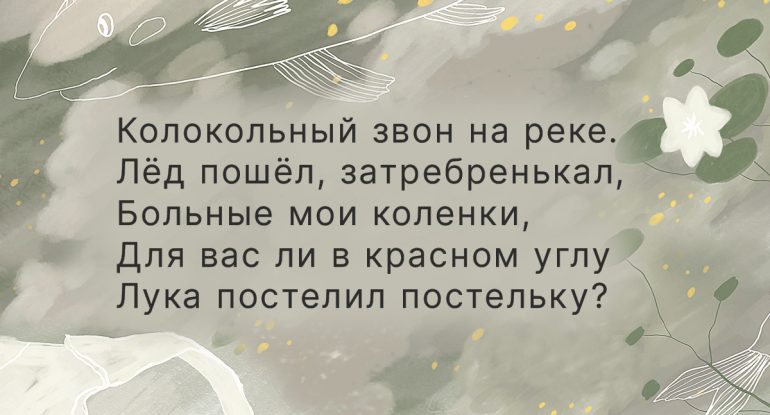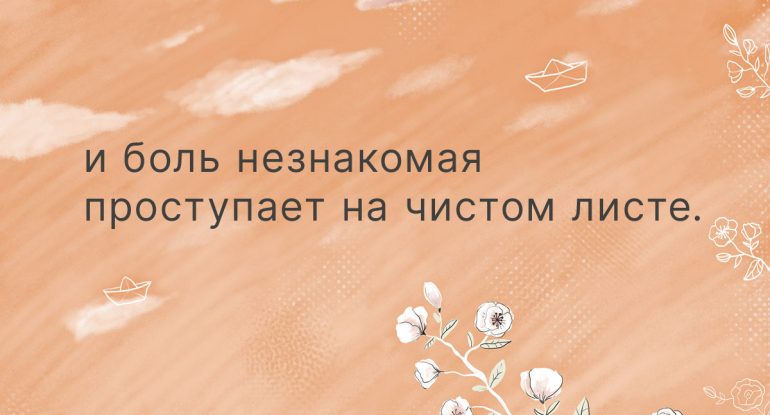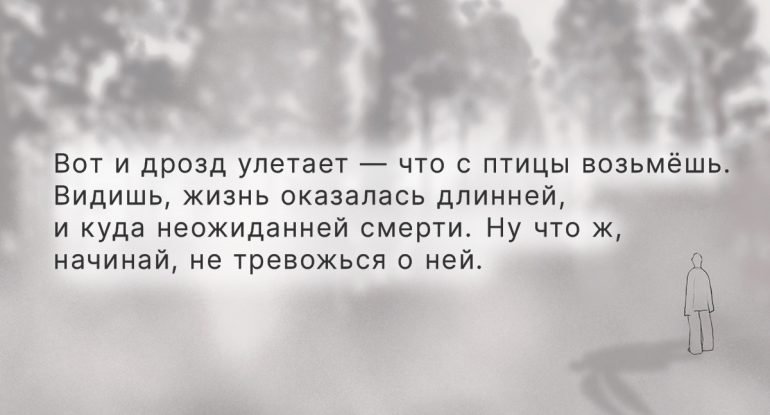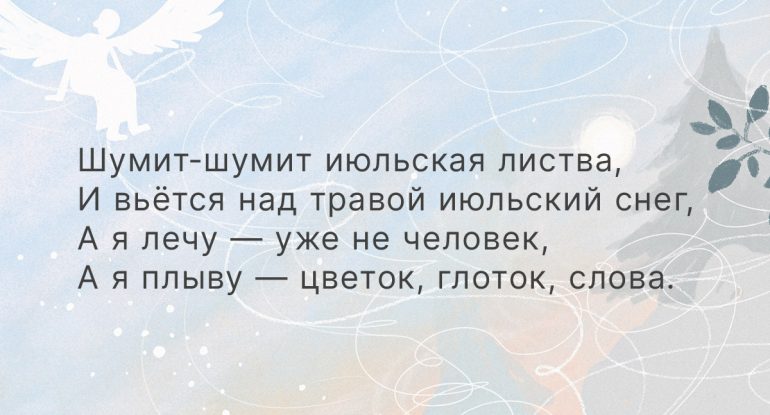Перечитывая стихи сегодняшней гостьи «Строф», и размышляя о ней, я, конечно же, вспомнил, как чудесно говорил мне о Климовой — наш замечательный поэт и переводчик Александр Ревич (три года назад Галина составила посмертную книгу его военной поэзии «А в небе ангелы летят»): «Она — освещает, понимаешь ли ты, освещает…»

Я и на себе это всегда чувствовал, изредка встречаясь с нею на общих литературных подмостках. Кстати сказать, в нашем дружестве есть что-то сказочное: однажды я случайно узнал, что в годы оные Галя хорошо знала некоторых моих родных, очень дорогих мне людей, кого уже давно нет на свете. Помню, что, когда она с нежностью назвала их имена, я словно бы услышал отзвук какой-то прозрачной и простой небесной песни, вроде тех, что поют в приходских школах: «Господи мой, сердце открой, дай мне услышать ангельский хор…» Славные и странные сближения — это тоже о ней, как и ее недавний, очень пронзительный документально-художественный роман «Юрская глина. Путеводитель по семейному альбому».
Рубрика «Строфы» Павла Крючкова, заместителя главного редактора и заведующего отдела поэзии «Нового мира», — совместный проект журналов «Фома» и «Новый мир».
В предисловии к сборнику «Почерк воздуха», изданному на рубеже веков, Ревич написал так: «Способность видеть то, чего не замечают остальные, — свойство ребенка, увидевшего короля голым, и обязательное свойство поэта. Этим отличается большинство стихов Галины Климовой. В их пространстве много света. И свет не декларирован, а органически присущ душе автора, живущего “между ближним и Богом”, идущего своим путем “сто верст пешком до небес”. Метафора Галины Климовой — это всё стихотворение, когда жизнь — летящий автобус, когда боковое зеркальце — живое сердце».
О многом хочется рассказать, представляя Галину Климову читателю этих страниц: о том, как ярко ведет она отдел поэзии журнала «Дружба народов», как предана своим поэтам-болгарам, став для них не просто — прекрасным переводчиком, но — кровной сестрой, почти соавтором. О подготовленной ею поэтической антологии «Святые матери, жены и девы»… Но уже пора — к чтению ее воздушных, горячих, исповедальных стихов.

* * *
Птицы водят клювами и перьями,
правят воздух, утыкаясь в точку,
часто стаями, но чаще — в одиночку,
дух захватывая или строчку,
и в карман за словом лезут первыми,
как за крошками и мошками, и перлами.
И — ку-ку вам! — пишущая братия,
есть в моей сердечной сумке птица,
в птице — слово, чтобы не разбиться,
в воздухе, где я, как ученица,
чтоб в полёте повторять распятие.
* * *
Где же ласточкины хвосты
замка Сфорца и стен Кремля?
Наших спин сожжены мосты,
и ушла из-под ног земля.
Не спасётся ли Нотр-Дам
на одном крыле воробья
в облаках ручного труда
из сырых лоскутов суровья?
Если дрозд станет россыпью звёзд,
то расстригами — все стрижи.
Я не верю в единственный гвоздь,
ржа которого жалит Кижи.
Диво горлинка — на Нерли,
голубь ладожский — Валаам.
Только нам приподняться с земли
не по силам и не по делам.
* * *
Новорождённый день и вечность так похожи,
два выраженья одного лица:
Творец, не признанный в прохожем,
или прохожий в образе Творца.
Блаженная Муза
Памяти Муры Ревич
Римлянка кроткая, отроковица,
жара боится пурпурная блуза,
белла рагацца, блаженная Муза,
пора помолиться!
Тёзка языческой дерзкой богини,
той, что с кифарой скиталась и флейтой,
где б ни играла она — там и лето…
Обе росли на равнине.
Детскому сердцу открылось в ночи:
Матерь Пречистая и хоровод,
радостных ангелов голоса…
— Через тридцать дней твой черёд,
собирайся, Муза, на небеса!
Терпи, блаженная, не хохочи,
не прыгай-не сигай,
не пой, не скачи…
И кроткая отроковица Муза
спросила поутру: я не умру?
Все тридцать дней молилась на миру,
в лесу и в храме, и в бреду —
ни тишине, ни ветру не обуза.
— Иду, Пречистая, иду!
* * *
«Почём ваши серафимы?»
(из разговоров
на православной ярмарке)
— Почём малютки серафимы
в канун Великого поста?
Их рвали, как цветы с куста,
запасливые зимы.
На нутряном замке уста,
и дом, и храм, и Чермно море,
снег на Афоне, на Фаворе…
Шесть крыльев, где найти насест?
Все изметелено окрест
в атеистическом задоре.
А серафимы здешних мест
в молчании, в глухом затворе,
вдруг явленные мне в фарфоре,
сквозь целлофановый пакет
и вовсе не глядят на свет.
Всё нипочём — и мы, и мир,
принявший их за сувенир.
* * *
Молитесь в утреннем саду,
чтоб сад не занемог.
Псалмы читайте на ходу
споткнувшихся дорог.
Кто одичал или продрог
и сам себе не по нутру,
молитесь на ветру.
Через две тыщи грешных лет
вам отзовется Назарет,
преуспевающий на вид.
Возможно, звёдный Вифлеем
в решении земных проблем
при жизни вас усыновит.
Иерусалим благословит.
* * *
Обид забористых частокол,
ни щели, ни лаза.
Слеза устремлённо ведёт протокол
из левого глаза.
Трава подстрекает.
Подводит тропа,
сто вёрст пешком до небес.
И что теперь плакать,
и что роптать,
как дремуч мой путь
через крестный лес.
И язык мой,
возлюбленный враг,
предрекая неравную битву,
дальше Киева доведёт враз,
лишь Иисусову вспомню молитву.