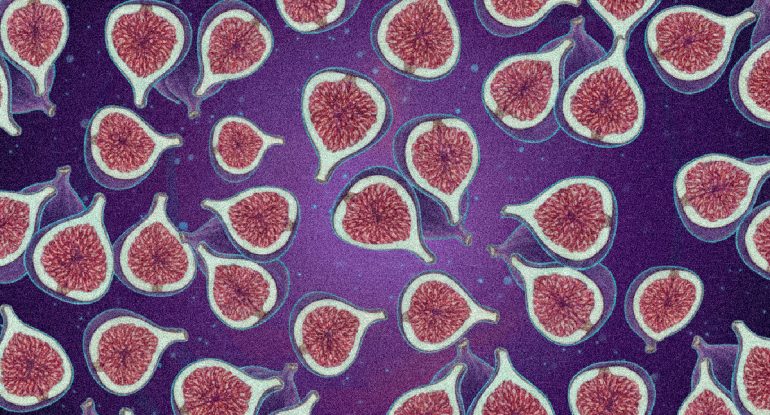Чем актуален образ Иуды в новом российском кино? Отчего современные герои порой берут оружие и расстреливают реальность? Чем хорош географ Виктор Служкин и почему дон Румата никогда не станет богом? Чтобы понять, какое отношение все эти образы имеют к нам, простым зрителям, мы попытались через призму кино проанализировать реальность. Оказалось, в нашем общественном сознании много политики, мифологии и… растерянности. Как и что мы мифологизировали и растеряли, а что отчасти обрели — об этом наш разговор с кинокритиком Львом Караханом.
Время Иуды?
— Мы с Вами, обсуждая актуальное кино, уже традиционно пытаемся обозначить те тенденции, которые характеризуют современное сознание... Давайте продолжим разговор и обратимся к наиболее дискуссионным российским фильмам последнего времени. Прежде всего я бы выделила картину Александра Велединского «Географ глобус пропил», фильмы «Трудно быть богом» Алексея Германа и «Левиафан» Андрея Звягинцева. Это яркие работы, о которых много пишут. Возможна ли какая-то диагностика нашего сегодняшнего образа мысли на основании этих картин?
— Чтобы более решительно войти в тему, предлагаю начать с картины, которую вы не включили в свою обойму. Не удивительно. Она не на слуху, в прокате большого успеха не имела, но в прошлом году именно эта картина представляла Россию на Московском кинофестивале, а исполнитель заглавной роли талантливый актер Алексей Шевченков был отмечен премией за лучшую мужскую роль. По-моему, достаточный повод для того, чтобы обратить на этот фильм внимание.
Поставил его молодой режиссер Алексей Богатырев, сценарист — Всеволод Бенигсен, а называется фильм «Иуда». В титрах есть ссылка на известную повесть Леонида Андреева «Иуда Искариот» — «по мотивам».

(Кинокомпания «АБС», 2013)
— Но повесть Андреева появилась в начале ХХ века — какая связь с сегодняшним днем?
— Если верить рекламному слогану картины, то связь в том, что «время Иуды пришло». У Андреева все не так радикально. Его концепция предполагала реабилитацию Иуды. В повести он являлся не злодеем, но послушным инструментом Божественной воли и главным созидателем евангельского сюжета — без предательства Иуды жертвоприношение Христа просто не могло бы свершиться. Под конец, впадая в декадентскую патетику, Андреев даже пишет слово «Предатель» с прописной буквы. но как бы ни возвышался андреевский Иуда над презирающими его высокомерными апостолами, он не теснит Иисуса и на место мессии не претендует. Вина андреевского Иуды такова, что, как и в Писании, он обрекает себя на беспросветный мрак самоубийства.
Что же касается Алексея Богатырева, то самоубийство Иуды в его фильме принципиально отменяется. Иуда приближается к мертвому дереву, погружается в раздумье — и остается жить. Его предательство героизируется с такой настойчивостью, что необходимость в безысходном финале отпадает сама собой. Иуда у Богатырева если и не превосходит Христа в своей духовной значимости, то уж во всяком случае равновелик Ему. Делая особый акцент на сакральном предательстве Иуды, авторы даже не называют Христа Христом, но уклончиво — Учителем.
— А авторы этого фильма настаивают на том, что их трактовка истинна? Леонид Андреев, по-моему, не настаивал, скорее это был художественный поиск символиста…
— В том-то и дело, что ни на чем авторы фильма «Иуда» не настаивают. Их глобальная ревизия предпринята с одной лишь целью — пошатнуть догматы и каноны. Режиссер Богатырев прямо так и говорит: «Я считаю, что это очень своевременно. А натолкнул меня на этот фильм некий формализм в обществе и в Церкви в частности. Все в жизни неоднозначно. Хочется попытаться поднять дополнительный пласт смыслов». То есть героизация Иуды как таковая не имеет никакого самостоятельного смысла. Как, скажем, в известном фильме Михаила Каца «Пустыня», снятом в 1991 году, — тоже по повести Леонида Андреева. У Каца Иуда становился героем как мученик веры, который, предавая Христа, пытается спасти иудаизм от христианства. Ни такой, ни какой-либо другой осмысленной альтернативы канону Иуда у Богатырева не предъявляет. Фильм пытается доказать лишь то, что абсолютного смысла нет вообще — даже в Евангелии. Всегда найдутся другие дополнительные смыслы, не менее важные, чем основные; и духовный подвиг предательства вполне годится для того, чтобы дополнить духовный подвиг Спасителя.
— Но может быть, это просто такая реакция на тезис о «духовных скрепах», который сегодня так часто используется в СМИ?
— Я искренне не понимаю, почему эта реакция должна вести к радостному провозглашению «времени Иуды» и к празднику непослушания в духовной сфере, неподвластной никаким пропагандистским веяниям? Ведь сферу эту определяют не слова политиков, но Слово Божие, Откровение. А Откровение, да простит меня господин Богатырев, не нуждается в его «дополнениях» — в принципе. На то оно и Откровение. Мало ли какая риторика звучит на дворе — не сшибать же из-за этого кресты. Да и что такого невероятно ужасного в самом понятии «духовные скрепы», которое просто позаимствовано политиками и отнюдь не из светского лексикона? А извратить, особенно в политическом контексте, можно все что угодно, подменяя духовные смыслы пропагандистскими, даже самые высокие понятия можно сделать равно пригодными и для того, чтобы поощрять милосердие, сочувствие, сострадание, и для того, чтобы шельмовать инакомыслие.
То же самое сейчас происходит с понятием «патриотизм», отсутствие которого некоторые уже готовы приравнять к государственному преступлению. И даже не пытаются разобраться в том, какой именно патриотизм свидетельствует о благонадежности. Ведь патриотизм — это не патриотизм вообще, патриотизм — это очень конкретно.
И надо ли объяснять, что патриотизм белой гвардии, к примеру, не то же самое, что советский патриотизм — даже несмотря на общую для того и другого «имперскость». Но патриотизм как декларация, как политический фетиш не предполагает сущностного подхода. Такой патриотизм легко допускает соседство под одним знаменем и Николая II, и Сталина — лишь бы это знамя реяло над поверженной цитаделью.
Проблема, на самом деле, не в пропаганде «духовных скреп», а в том, что их отсутствие или слабость на практике чаще всего ведут не к трудным попыткам найти, нащупать эти духовные скрепы внутри себя, но к массовому производству скреп фасадных, которые способны лишь усугублять внутреннее зияние. При этом на живую нитку скрепляется все, что только способно создавать иллюзию крепости — о сущностях задумываться некогда. На Пасху в книжном магазине я, к примеру, увидел сборник «Великий пост». Без всяких комментариев в него была включена повесть Леонида Андреева «Иуда Искариот» — видимо, на том основании, что это «библейский сюжет».
Сегодня государство в своем разумном, в принципе, стремлении создавать устойчивые мифологические модели, способные восстановить и поддержать чувство фундаментальной устойчивости бытия, делает понятную ставку на массовое кино. В отличие от рефлексивного по своей природе авторского, оно всегда настроено на позитив. И вроде бы есть результат. Такие, скажем, фильмы, как «Легенда № 17» Николая Лебедева или «Сталинград» Федора Бондарчука, не просто сделали хорошую «кассу», но кардинально увеличили общую долю отечественного кино в российской прокатной выручке. Трудно не заметить в этих картинах и существенное улучшение качества массового кинопродукта. В связи со «Сталинградом» можно говорить, прежде всего, об успешном освоении технологий 3D, а в «Легенде № 17» и драматургия, и режиссура, и актерские работы — всё на высоте. Но если заглянуть за впечатляющий кинематографический фасад этих прокатных хитов, то никакой искомой внутренней устойчивости и фундаментальности мы, как ни странно, не обнаружим.
Мифы, которые мы выбираем
— А что конкретно смущает вас в этих картинах?
— Именно неадекватность их оценки и неоправданное стремление превратить их в идеологическое знамя.
Я не пытаюсь умалить достоинства и достижения этих фильмов, но, по-моему, очень важно понять, что в «Легенде № 17», к примеру, покоряет вовсе не цельность внутренней художнической позиции. Скорее, срабатывают та ловкость и искусность, с которыми по-прежнему популярная коллективистская советская мифология (наши, в данном случае, хоккеисты, «впереди планеты всей») освежается и подновляется все еще полуподпольной для общественного сознания американизированной мифологией независимого индивидуума («один в поле воин»). Вспомните хотя бы замечательный по своему драматическому напряжению эпизод, в котором великий хоккейный тренер Анатолий Тарасов, посчитав несправедливым решение судьи, вопреки воле генсека Брежнева, сидящего на трибунах, не выпускает свою команду на лед. В этот момент Олег Меньшиков играет Тарасова — и играет убедительно — как одинокого, но бесстрашного и непримиримого борца с превосходящим его по силе врагом. Тарасов Меньшикова воюет не просто с Брежневым, но словно идет против всей способной растереть его в порошок государственной машины, в чем и проявляет свой истинный героизм. Но ведь это как будто из вестерна взятое образное решение явно не укладывается в общую намеренно советизированную стилистику фильма. Куда органичней в этом контексте (в том числе и с точки зрения мифологии) смотрелась бы схватка двух абсолютно советских характеров, двух в равной степени преданных тоталитарному государству зубров, в которой формально побеждает тот, кто уповает на свою неограниченную власть, а по существу — тот, кто не сдает своих, команду, коллектив.
Попытка освоить старые мифологемы новыми средствами и в новых обстоятельствах есть и в 3D «Сталинграде». Но только подвиг защитников Сталинграда выглядит в этой картине столь драматургически аморфным и непроявленным, что впору поверить единственной определенной характеристике происходящих на экране событий, которую дает немецкий офицер: немцы воюют за победу, а русские — из мести. Естественно, что при таком раскладе подтянуть наше героическое прошлое к сегодняшнему уже международному, глобальному героизму русского человека как-то не получается. Спасающий жертв мощного землетрясения в Японии пожилой эмчеэсовец, как выясняется, рожденный от кого-то из бойцов-сталинградцев, только и делает на экране, что уповает на свою героическую генеалогию. Но особого сочувствия это не вызывает.
— Выходит, мы все-таки встаем на путь Голливуда, раз создаем такие мифологемы. Но что в этом плохого? Может, и у нас должны появиться такие герои? Герои, которые спасают мир?
— Плохо то, что мы обманываемся и, выдавая-принимая одно за другое, все больше запутываемся в разнородных ориентирах. Сила американских мифологем в их внутренней цельности — не обсуждаю сейчас ни достоинства, ни недостатки этой цельности. Мы же, со времен графа Потемкина, часто уповаем на фасад. Лишь бы по фасаду срослось.
Но духовные скрепы не возникают по указке. Они произрастают мучительно, долго и по возможности на экологически чистом, духовно «беспримесном» питании, а не на добавках, «дополнительных пластах» и прочих питательных мифологических смесях. Мы же не дети.
Куда более взрослый разговор о нынешней духовной ситуации позволяют, как мне кажется, вести как раз те авторские фильмы, которые сегодня у киноначальства, озабоченного пропагандой позитива, на подозрении.
Иногда этот взрослый авторский разговор и в самом деле без особой надобности становится слишком уж взрослым, так что, как говорили в старину, с дамой в кино идти совестно. Но при всех недостатках, в том числе и художественных, притом, что критический настрой подчас перерастает в увлеченность и даже упоение пессимизмом, именно эти «неблагонадежные» авторские фильмы пока гораздо лучше диагностируют болезни нашего духовного роста (а может, и опасной духовной стагнации).
С чего начинается бунт
— Вы можете привести какие-то конкретные примеры?
— Вот, к примеру, что происходит с героем режиссера Бориса Хлебникова в его фильме «Долгая счастливая жизнь», который в прошлом году был включен в официальную конкурсную программу Берлинского кинофестиваля.
Сначала, когда крупные экономические структуры хотят отобрать у его маленького кооператива землю и выдать компенсацию, герой относится к происходящему покорно. Но потом, увлеченный негодованием членов кооператива, он включается в борьбу, землю не отдает и стоит буквально насмерть. В конце, когда к нему, уже покинутому единомышленниками, являются новые арендаторы с милицией, герой в упор расстреливает и захватчиков, и милиционеров.
Многие критики написали о чрезмерной, неоправданной драматической взвинченности, жестокости такого финала. И я согласен с ними. Но в контексте нашего разговора эта чрезмерность и в поступках героя, и в позиции автора, явно солидарного со своим героем, весьма значима — диагностична. Ведь эти чрезмерность, неадекватность свидетельствуют прежде всего о неуверенности героя в себе, о внутренней растерянности, о болезненной неприкаянности. Стреляя в пришельцев, герой Хлебникова стреляет главным образом в реальность, дежурным, в общем-то, несправедливостям которой ему внутренне нечего противопоставить. Именно внутреннюю пустоту герой и пытается заместить, но, заметьте, не синтетическими киномифологемами, а по-взрослому, тем самым «бессмысленным и беспощадным» бунтом, который на практике очень часто превращается в самоцель. Но своей гибельной романтикой этот бунт может создать лишь иллюзию внутренней наполненности. В итоге же приводит к еще более зловещей пустоте. К тому, что, как говорит Достоевский, воцаряется «идеал содомский», а Искупительную Жертву заслоняет «Предатель» с большой буквы. Мне лично стыдно, когда, взобравшись на трибуну, интеллигентные люди от литературы превращаются в кричащих монстров, призывающих к бунту.
— А что нового добавляет к фильму Бориса Хлебникова картина Андрея Звягинцева «Левиафан», которая в этом году участвовала в конкурсе самого престижного Каннского кинофестиваля и получила приз за лучший сценарий? Ведь у Звягинцева очень похожая коллизия — героя выживают с его земли.
— Да, только этот герой, слава Богу, не способен никого убить — только грозится. Угнетенный невзгодами, он просто по старой русской традиции погружается в алкогольное забытье. В какой-то мертвой точке зависает вместе с героем и авторская мысль. Все начинается очень буйно — с жестких и довольно точных социальных обличений проворовавшейся власти, в частности, местного мэра, положившего глаз на живописнейший уголок приморья, в котором обитает главный герой. Достается и православному иерарху, периодически выпивающему вместе с мэром и «духовно» крышующему его делишки. Но так, не восходя к какой-либо значительной кульминации, фильм и заканчивается: мэр продолжает воровать и бесчинствовать, иерарх лицемерно покрывать эти бесчинства, а беспробудно пьющий герой отправляется за решетку по ложному обвинению в убийстве жены из ревности.
С точки зрения драматургии, это топтание на месте — безусловно, проблема, и проблема в художественном отношении существенная. Но, как и в случае с чрезмерно радикальным финалом у Хлебникова, эта проблема является «говорящей» в контексте нашего обсуждения.
Звягинцев, в отличие от Хлебникова, не готов вооружать своего героя, не готов указывать на топор за печкой. Звягинцев нерешителен, но — что важно — он не погружается в отчаяние. Он прислушивается, присматривается к реальности, словно взыскуя такого итога, к которому сам еще не готов и на который не отваживается. Но Звягинцев уже совершенно готов к тому, чтобы не зацикливать духовную проблематику фильма на фигуре профанного иерарха. И, конечно же, не случайно режиссер вводит в действие сельского священника-бессребреника и его труженицу-матушку. Именно священник пытается урезонить не выходящего из запоя героя рассказом об Иове Многострадальном. Эта библейская тема, правда, никак сущностно не поддерживается драматургией, и единственное, что хоть как-то корреспондирует с ней в фильме — гигантский скелет на берегу океана, то ли кита, то ли и впрямь ветхозаветного Левиафана, ставший эмблемой картины.
Авторское внутреннее ожидание так и остается ожиданием. Но вот что поразительно: само это ожидание оказывается созидательным. Оно словно помимо прямой авторской воли, в опережение, создает не предусмотренные замыслом гипотетические смыслы.
На месте варварски снесенного мэром обиталища героя возникает в эпилоге белокаменный храм (ясно — кается злодей мэр, но храм — все же не персональная дача с золотыми унитазами). Даже выходит так, что служить в этом новом храме вроде больше и некому, кроме того самого местного сельского священника, который, пожалуй, и является единственным положительным героем фильма Звягинцева.
Из небытия в бытие…
— Скажите, но неужели в нашем нынешнем кино совсем нет героев, помимо мифогенных, которые были бы способны на поступок и обретение хоть какой-то внутренней определенности?
— Мне кажется, такой герой есть. Это Виктор Служкин из упомянутой вами картины «Географ глобус пропил». Его появление многие восприняли как возвращение проблематики эпохи застоя — таких героев, как Макаров из «Полетов во сне и наяву», как Зилов из «Утиной охоты» (в киноверсии — «Отпуск в сентябре»). Мол, времена на дворе опять застойные, вот вам и художественный рецидив. Шутовской и, в общем-то, безобидный эскапизм Служкина даже показался многим слишком уж беззубым и старомодным в контексте куда более брутальных протестных решений — как у Хлебникова, скажем.
Но, по-моему, Служкин, каким он предстает в фильме Александра Велединского, — это совсем не про то: не про застой, не про латентный нонконформизм, не про скрытый протест, а про борьбу человека прежде всего с самим собой. И ирония Служкина, каким его играет Константин Хабенский, — это главным образом самоирония.
Служкин борется с самим собой за себя. За того внутреннего Служкина, который ему гораздо ближе внешнего, утомившего не только жену и окружающих, но и самого героя.
Ведь он же есть — тот Служкин, который умеет смотреть на воду, на небо, на лес, который мечтает об Австралии — и не в эмигрантском смысле, но с тем пафосом, который был уместен разве что в эпоху великих географических открытий.
А вся история с фотографиями, когда на снимок, сделанный влюбленной в Служкина ученицей, под названием «Вечный взрыв», он отвечает фотографией с подписью «Просто вода»… А разговор со старой подругой, которая незатейливо предлагает Служкину быстрый, ни к чему не обязывающий секс, а он неожиданно объявляет, что хотел бы жить как святой, как святой в миру: «... чтобы я никому не был залогом счастья и мне никто не был залогом счастья. При этом я бы любил людей, и люди меня любили». Наивно, неловко — да, но недавно я прочел слова апостола Павла: «Не оставайтесь должны никому ничем, кроме взаимной любви». Есть ведь что-то созвучное, правда?
Мне кажется, главный вопрос Служкина в том, как пробиться к себе, внутреннему, сквозь инерцию повседневности. И, как и во всем остальном, чисто интуитивно он пытается ответить на него, отправляясь со своими мучителями-учениками в поход на пороги. Мне трудно даже понять, почему многие критики посчитали этот сюжет чужеродным и затянутым. Ведь именно в походе происходят важнейшие события в судьбе героя. И дело не только в том, что именно в походе, преодолевая страх, «не могу», «не хочу» и все прочие свои защитные, бытовые реакции, включая запой, Служкин открывается навстречу самому себе и тому естественному живому миру, который поначалу пугает его с непривычки. В походе происходит и самое главное событие фильма. Оказавшись в опасной близости с влюбленной в него ученицей, Служкин, может быть, впервые в жизни с такой решимостью преодолевает свою обычную безответственную спонтанность, не идет на поводу у обстоятельств и с трудом, но удерживает себя от уже совсем не шуточного искушения.
Все в нашей жизни взаимосвязано, и любой наш выбор имеет свои последствия. Думаю, то, что ученики Служкина не погибли в реке, отправившись на сложнейший порог без учителя, произошло еще и потому, что Служкин не предал себя.
— Вы сейчас практически сделали героя из человека, который на самом деле ничего героического не совершил. Он не воспользовался старшеклассницей — да, молодец. Но разве это героизм? Если бы воспользовался — был бы подлецом, а так — он просто нормальный человек, в котором живы хоть какие-то представления о здравом смысле.
— Здесь речь идет не о норме, а о том, как человек крошечными, еще очень неуверенными шагами старается выбраться из небытия в бытие. В этом смысле очень важен и финал картины. Помните, герой выходит на балкон. И зритель, как и обреченно вернувшаяся домой после любовного зигзага жена, ожидают недоброго: спрыгнет вниз. Нет, не прыгает. Живет.
— То есть вы хотите сказать, что если на свершения современный герой уже не способен, то для него не покончить с собой — тоже важный шаг? Как в известной мысли о последних временах: люди спасаются не подвигами (они им не под силу), а тем, как несут скорби.
— Если угодно. Или, по евангельской мысли, «последние будут первыми». Когда возвращается блудный сын, он для отца во сто крат важнее и дороже, чем сын-домосед. В Служкине случилось пробуждение. Он прошел определенный путь, стал чуть-чуть другим, и для самого себя он уже не пустой.
Координаты ближнего боя

«Трудно быть богом» («Ленфильм», Студия «Север», 2013)
— А как бы вы прокомментировали в контексте нашего разговора, возможно, один из самых трудных во всех отношениях авторских фильмов последнего времени — фильм Алексея Германа «Трудно быть богом»? Мое зрительское ощущение таково, что здесь не то что герой — здесь сам художник расстреливает реальность, жизнь... Зачем?
— Для меня этот фильм — свидетельство. Свидетельство страшное и во всех отношениях трагическое, потому что, так и не завершив свой многолетний труд, Алексей Герман умер.
— Свидетельство чего?
— Свидетельство конца гигантского и по-своему величественного культурно-исторического, а в каком-то смысле и духовного проекта под названием «советская интеллигенция». В основе этого проекта лежала идея внутреннего самосохранения и самозащиты в условиях враждебного внутренней свободе, внутренней жизни вообще тоталитарного устройства окружающего мира. И всякий духовно значительный поступок в этой ситуации был неизбежно связан с противостоянием, а иногда и прямым сопротивлением внешнему давлению. Даже поход в церковь в этих координатах становился прежде всего вызовом несогласных — конфронтацией с режимом.
Фильмы Германа были целиком и полностью поглощены духом этой священной конфронтации. И даже в самом лирическом и, казалось бы, удаленном от этой темы фильме «Мой друг Иван Лапшин» именно мотив конфронтации скрыто определяет щемящий драматизм действия, неожиданно и открыто выплескиваясь в финале, когда в кадре проезжает трамвай, украшенный портретом Сталина.
Фильмы Германа, как вы знаете, рождались очень трудно, фактически на самой линии невидимого огня. Поэтому и обгорел Герман на этом огне больше всех. Поэтому и фильмов у него так мало. Поэтому же, наверно, он и заплатил самую высокую нравственную цену, когда линии огня, железного занавеса и всего того, что долгие десятилетия мучило людей избыточным внешним давлением, вдруг не стало. А заплатил он неожиданным внутренним одиночеством, потерей привычной зрительской аудитории, потерей отклика, потерей смысла. Он неоднократно говорил об этом в своих постсоветских интервью.
Но трагедия Германа истинная, о которой я сказал в начале, состояла все-таки не в потере смысла, а в том, что Герман вознамерился возродить этот смысл в привычных себе координатах ближнего боя. Для поддержания внутренних сил и бодрости духа он решился воссоздать ситуацию внешнего давления в своем отдельно взятом художественном произведении — на экране. Тогда-то Герман и вернулся к давнему замыслу — экранизировать культовое для всякого уважающего себя советского интеллигента научно-фантастическое иносказание братьев Стругацких «Трудно быть богом». И не удивительно, что «с голодухи» он попытался наесться, как всякий голодающий, впрок, с запасом, опасно для жизни теряя меру. Ему нужна была такая угнетающая все живое стена реальности, которую правильнее было бы сравнить по замаху и особенно по срокам строительства не с Берлинской, а с Китайской. Разве могли привлечь его масштабную натуру и стать для него источником вдохновения те реальные постсоветские рецидивы тоталитарного мышления, которые мы так любим панически возводить в квадрат и в куб? Большому кораблю требовалось настоящее, большое плавание.
Хотя в начале фильма можно усмотреть некоторые признаки актуализации: арканарского мыслителя и художника, к примеру, в прямом смысле «мочат в сортире». Но все дальнейшее действие погружает нас в реальность такой непроходимо зловещей плотности, аналогов которой, наверное, просто не существует в исторической практике. Кажется, все могучее мастерство Германа-постановщика было брошено именно на то, чтобы ужас арканарского мира стал сплошным, непрерывным, беспросветным — фантастическим.
Кажется, вот он предел. И все-таки внутренний ужас созданного Германом произведения, по-моему, еще ужаснее того кинематографического мира, который мы видим воочию. Ведь, вытравив из кадра все, что причудливо не обезображено мощной режиссерской рукой, Герман сделал арканарский ад реальностью самодовлеющей и в этом смысле уже не противостоящей всему живому, как это свойственно всем реальным историческим тоталитаризмам, но катастрофически поглощающей это живое без остатка, как черная дыра. В арканарском мире внутренняя альтернатива не может состояться в принципе. Не случайно главный герой и авторский протагонист дон Румата, сыгранный Леонидом Ярмольником, предстает в фильме безвольным, выжженным изнутри придатком зловещей вакханалии. Скажу больше, им, похоже, становится и сам автор-демиург: «По прошествии многих лет, я могу сказать, что играл Германа», — признался в одном из интервью Ярмольник.
В «Трудно быть богом» все прославленные, опорные сентенции, которыми когда-то, как воздухом свободы, жила советская интеллигенция, превращаются словно в тени самих себя: так бессмысленным бормотанием становится знаменитый рефрен Стругацких про табачника с Табачной улицы, а священное пастернаковское «Гул затих, я вышел на подмостки...» — пустой декламацией.
Реальность, которую Герман скрупулезно воссоздавал, чтобы выжить, оказалась смертоносной. В этой реальности не то что трудно — но невозможно быть богом. Быть Богу.
Радость тишины
— Но ведь было время, и не так давно, когда появился, например, фильм «Остров», и его с восторгом смотрели. А в нем ведь была не ложная, не надуманная и не искусственная, а естественная высота духовного поиска. Или это время осталось позади?
— Просто у каждого времени своя актуальность. Во времена «Острова» была пора духовного самоопределения. Люди искали в искусстве ответы на вопросы, связанные с верой, грехом, покаянием, чудом, воцерковлением и нецерковным верованием. Это было время прямых вопросов и ответов. Но с тех пор многое изменилось. Мы пережили непростые, кризисные времена в отношениях Церкви и общества. Трудно пока сказать, что эти времена уже закончились. Духовность веры, духовность Откровения для кого-то утратили, а для кого-то так и не возымели естественную силу притяжения. Возникли поиски альтернативных путей внутренней реализации. В любом случае, разговор о духовном существовании перестал быть таким простым и открытым, как в «Острове». Но это не означает, что то, что было, как вы сказали, «осталось позади». Уверен, что среди миллионов, которые стоят сегодня к Поясу Богородицы и другим христианским святыням, немало и тех, кто смотрел фильм «Остров». А вы говорите: «позади».
Статистика, связанная с этими новейшими паломничествами, вообще потрясает. И в последнее время меня постоянно занимал вопрос, на который статистика, к сожалению, ответа дать не может: а как в процентном отношении те миллионы, которые стоят в очереди к святыням, распределяются в наиболее актуальном на сегодняшний день политизированном общественном пространстве? Условно говоря, сколько паломников идет на площади хвалить или ругать власть? И вот к какому выводу я пришел, не опираясь, правда, ни на какую статистику, потому что ее нет: нисколько!
Вероятнее всего, различные по сути зоны внутреннего выбора вообще не пересекаются. Те, стоящие в очереди, которые вкусили радость тишины и молчания, не пойдут кричать на площадь. При этом их молчание — это не пушкинское «народ безмолвствует», не сумрачная и обреченная покорность историческим обстоятельствам, но желание услышать в тишине и познать превосходящий все правды и неправды истории высший духовный смысл.
Кто знает, может быть, пройдет время, и те, кому сегодня духовным выбором представляется именно крик, отчаянный крик, тоже услышат и выберут тишину.