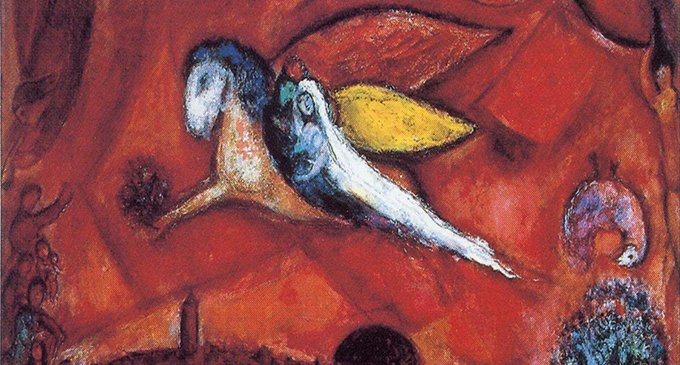Наблюдая споры между людьми церковными и внешними о том, не слишком ли Церковь сближается с государством, трудно отделаться от ощущения, что ход этих споров во многом определяется реалиями, которых уже нет и не будет. Это вызывает ассоциации с японским солдатом, который двадцать лет партизанил, пока ему не объяснили, что война давно кончилась.
Наблюдая споры между людьми церковными и внешними о том, не слишком ли Церковь сближается с государством, трудно отделаться от ощущения, что ход этих споров во многом определяется реалиями, которых уже нет и не будет. Это вызывает ассоциации с японским солдатом, который двадцать лет партизанил, пока ему не объяснили, что война давно кончилась.
Церковь состоит из людей; причем, учитывая исторический опыт прошлого века, большинство людей в Церкви сегодня (включая автора этих строк) пришли к Православию уже взрослыми, в результате осознанного решения. Нам бывает смешно читать слова западных атеистических публицистов про то, что, если человек верит в Бога, это результат «детской индоктринации». Многие из нас выросли в условиях как раз атеистической индоктринации.
Церковь земная существует не в некоем идеальном духовном пространстве; она погружена в определенную культуру, которая на нее неизбежно влияет. Попробую пояснить, что я имею в виду, на примере. Как-то я знакомился с историей христианизации Норвегии и немало огорчался довольно насильственному характеру этого процесса — тем более что противники нашей веры любили на это указывать. Печально ли это? Да. Объяснимо ли? Да, конечно. Евангелие приходит к людям определенной эпохи и культуры. В данной эпохе и культуре было принято решать все вопросы, погружая «Ратных ужей кольчуги В крытые острым железом Домы просторные крови» («Сага о Греттире»). И до новокрещеных викингов не сразу доходило, что секирой по кумполу — это не тот метод миссии, который заповедан в Писании. Они так привыкли, секирой, и по-другому не умели.
Мы, слава Богу, выросли, в культуре все же гораздо менее насильственной, но глубоко расцерковленной. Все мы склонны, скорее неосознанно, вносить эту культуру в Церковь. В какой-то мере это неизбежно и даже не всегда плохо. Но нам стоит отдавать себе отчет в том, что некоторые элементы этой культуры являются по отношению к Церкви внешними.
Речь идет не только о явных случаях, когда новокрещеному гопнику (как в свое время новокрещеному викингу) важно напоминать, что не все привычки из его прошлой жизни можно воцерковить — некоторые придется оставить, но и о том, чему довольно легко придать православную окраску .
Похоже, что некоторые конфликты и непонимания в Церкви вызваны внесением в ее ограду двух конфликтующих, но при этом глубоко взаимозависимых подходов к жизни — «советчины» и антисоветчины. Да, со времен распада СССР прошло уже больше двадцати лет, уже выросло поколение людей, которым трудно объяснить реалии той эпохи, но сложившиеся тогда стереотипы поведения продолжают воспроизводиться.
Что характерно для советского стереотипа? Гордость за свое государство и безусловная преданность ему. Великая Отечественная война научила, что без государства народ будет просто стерт с карты мира, и поэтому государству можно прощать многое, почти все. Патриотизм, обратная стороной которого — поиск врага. Коллективизм и сознание долга перед обществом, общего дела, солидарности в достижении общегосударственных целей. Патернализм, вера в то, что государство может и должно печься о телесном и духовном благополучии граждан, не всегда спрашивая их разрешения, по принципу «не можешь — научим, не хочешь — заставим». Предоставленные сами себе граждане склонны колоться, спиваться и всячески себя губить, поэтому надо без излишней жестокости, но решительно контролировать их ради их же блага. Глубокое недоверие к идеям личных прав и индивидуальной свободы. Недоверие, связанное, во-первых, с тем, что «права» все больше ассоциируются с навязыванием пороков, во-вторых, с тем, что современные войны по своему пропагандистскому обеспечению становятся все более «правозащитными», как пятьсот лет назад они были «религиозными». Советский стереотип может проявляться, например, в запрете рок-концерта — точно таком же, как в 1980-е, продиктованном точно такой же заботой о духовно-нравственном состоянии молодежи, только с некоторым добавлением православной терминологии. Мне доводилось общаться с теми, кто, несомненно искренне обратившись в Православие, остаются людьми глубоко советскими, что вовсе не значит — «плохими». Они могут искренне и ревностно хотеть стране и людям добра — и добиваться его так, как привыкли; они могут стремиться послужить Богу — так, как умеют.
Но в Интернете и СМИ больше бросаются в глаза «антисоветчики» — носители стереотипа противоположного. Они обычно активнее пишут и лучше знакомы с Интернетом. Они крайне негативно относятся к государству, всячески от него дистанцироваться в этой среде является не просто признаком хорошего тона, но признаком минимального приличия. Руководством к действию выступает знаменитое эссе Александра Солженицина «Жить не по лжи»: «Самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи! Пусть ложь всё покрыла, всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через меня!» Государство воспринимается «антисоветчиками» с той же степенью подозрительности, с какой «советские» воспринимают Запад: мы знаем, что они коварные враги — «зубы точут и съесть нас хочут», и любые их телодвижения должны истолковываться исходя из этой непреложной данности.
Для «советчика» компрометирующим являются контакты с заграницей. Помню, как один человек напрягся, увидев, что я читаю с экрана ноутбука текст на английском языке, — «наши люди» на этом языке не читают. Точно также для «антисоветчика» компрометирующими являются любые контакты с властью. В Церкви «антисоветчик» требует от нее того же — надо дистанцироваться от этого ужасного государства, любое сближение с ним вызывает у него такое же напряжение, как у «советчика» — контакты с заграницей.
Однако у приверженцев обоих стереотипов поведения есть нечто общее — нетерпимость. Казалось бы, ее естественней ожидать от «советчиков», но «антисоветчики» по меньшей мере не отстают. На многих из наших борцов за демократию чрезвычайно органично смотрелись бы кожанка и маузер. Предполагается, что разделять определенные политические убеждения есть нравственный долг, и в силу этого человек с другой политической позицией не просто неправ, а именно нравственно порочен; он является предателем, подлецом и мразью. По всей видимости, он придерживается своих взглядов, потому что ему их оплачивает Госдеп/КГБ. Любые компромиссы и соглашения — даже хотя бы просто дружеская беседа — с оппонентом равносильны предательству; ветхозаветное восклицание «полною ненавистью ненавижу их: враги они мне» полагается обязательным критерием политической — и, следовательно, нравственной — правоты.
Надо сказать, конечно, что в реальной жизни люди неизбежно «скоромятся»: «советчики» пользуются программным обеспечением, разработанным в США, и западными технологиями вообще, а многие «антисоветчики» получают зарплату (не всегда маленькую) у того самого государства, которым всячески гнушаются. Впрочем, это порождает лишь ревностное «замаливание грехов» и еще более взвинченную риторику.
Обе стороны являются партизанами на давно закончившейся войне. Простодушным иностранцам не всегда легко объяснить, что Russians уже довольно давно не Godless Communists; беда в том, что это не всегда легко объяснить и соотечественникам. «Антисоветчики» напряженно борются с режимом, которого уже двадцать лет как нет, и постоянно упускают из вида, что сейчас не 1974 год, когда Солженицын писал свое эссе «Жить не по лжи», а 2012-й, и нынешний политический режим, как бы к нему ни относиться, это не идеологическая диктатура позднего СССР. Иногда люди пытаются вслух убедить себя, что они живут все еще в СССР — и борются с ним; это немного напоминает сцену из фантастического рассказа Дмитрия Биленкина «Пересечение Пути»: «Конечно, у них ничего не получалось, да и вообще все было как-то не так: враг не рвался из пут, а ветверуки, которые должны были стиснуть опасные стригали урбана, вместо этого стискивали пустоту».
Беда в том, что такая жизненная позиция по-своему комфортна. Как писал в статье «Мы и наши иерархи» Сергей Сергеевич Аверинцев, «Да, несвобода была мукой, была унижением и болью, но если мы хотим выговорить всю правду, мы должны признать, что эта же несвобода каждого из нас — избаловала. С несвободного — какой же спрос? Какой изверг посмеет попрекнуть невольника тоталитарной системы, что последний не берет на себя задач, от которых он отстранен насилием власти? Задачи эти морально переставали существовать, ибо старый принцип нравственного богословия гласит: «Ad impossibilia nemo tenetur» («никто не обязан совершить невозможное»). О, конечно, существовали исключения, когда тот или иной «диссидент» в акте героизма пытался на короткое время — до своего ареста — взять на себя некую толику запретных обязанностей; но исключения эти подтверждали правило, поскольку акция протеста, оплаченная мученичеством, оценивается по иным критериям, чем регулярное выполнение рабочих функций в нормальное время. Пока поэт рискует пойти в тюрьму за свои стихи, священник — за свои проповеди, христианский активист — за попытку наладить подпольные уроки Закона Божия, сама жизнь отодвигает в сторону вопрос о профессиональном качестве этих стихов, этих проповедей, этих уроков. Любое слово, противостоявшее навязанной идеологии, значило больше своего же собственного прямого смысла. И вдруг, о ужас, оно начинает значить ровно столько, сколько оно значит. Романтика свободы, романтика сопротивления тоталитаризму не может пережить тоталитаризма; с приходом свободы неминуемо возвращаются профессиональные, деловые критерии — при страшном дефиците профессионализма».
Сейчас мы живем в другой ситуации: мы никак не можем сказать, что «насилие власти» отстранило нас от исполнения наших задач. Какие бы претензии ни высказывать к власти — эту предъявить невозможно. Выполнять наш прямой христианский долг — проповедовать слово Божие, учить детей, помогать нуждающимся, возводить храмы и служить Литургию — нам правительство не мешает. В любом государстве исполнение этих задач предполагает определенное взаимодействие с властями: чтобы священник мог прийти в больницу или тюрьму, нужно разрешение соответствующего начальства; чтобы построить храм, нужно договориться с городскими властями; чтобы священники пришли в армию, нужно согласие министерства обороны.
Человек, который уклонялся от любого сотрудничества с государством в 1974 году, мог надеяться оправдаться уже этим — добра ему творить не дают, он хотя бы уклонится от зла. Сейчас такое оправдание невозможно. Отказываться от исполнения своего долга потому, что оно потребует взаимодействия с государством, — значит навлекать на себя осуждение, а не оправдание.
Надо отметить, что тезис «антисоветчиков» о недопустимом сближении Церкви с государством тут же подхватывается несколько другим движением — воинствующими атеистами и антиклерикалами. В их исполнении он принимает весьма ироничные анекдотичные формы. Например, недавно Александр Никонов, атеистический публицист, скандально известный своим предложением убивать больных младенцев, выступая по телевидению, драматически произнес: «Мы живем в страшные времена... во времена православного фашизма».
Те, кто жил даже не при фашизме, а хотя бы при научном атеизме времен позднего СССР, (который с фашизмом сравнивать было бы крайне несправедливо) оценят иронию ситуации: человек жалуется на страшный фашизм, при котором он живет, по телевидению (!). Представить себе, чтобы не при фашизме, а хотя бы в СССР, кто-то по ТВ мог сказать «мы живем в ужасные времена»… Это было просто за пределами фантазии. На кухне — еще можно. Хотя и неблагоразумно. Но открыто… Вот в 1968 году группа граждан попыталась. Владимир Познер жалуется на засилье «алчной, мстительной поповщины.... проникающей в органы власти», и при этом остается ведущим на Первом канале государственного телевидения; недавно он брал интервью у Дмитрия Медведева — в таковое глубокое подполье загнала его «мстительная поповщина».
Выслушивая упреки в сближении с государством, нам стоит задаться вопросом: а какой уровень взаимодействия с государством был бы приемлем? Боюсь, что очевидный ответ — никакой. Если положение дел, при котором яростные противники Церкви постоянно выступают по телевидению, является «православным фашизмом», то что же тогда не будет «православным фашизмом»? Если попытка приблизить Россию к общеевропейским стандартам присутствия Церкви в общественной и государственной жизни — знакомство с основами религиозной культуры в школах, кафедры теологии в ВУЗах, капелланы в армии и т. д. — является «недопустимым сближением государства и Церкви», то что тогда является допустимым?
Как-то я прочел отзыв на выступление одного зарубежного политика: «Кто-нибудь, скажите ему, что вьетнамская война уже кончилась». Думаю, что нам стоит напомнить и «советчикам» и «антисоветчикам» вне Церкви и внутри нее, что советская эпоха кончилась. Уже нет ничего ужасного в том, чтобы общаться с иностранцами и даже ездить за границу. И не стоит бороться за нравственность методами кампаний по борьбе со стилягами. Это и не нужно, и не получится. Также нет ничего ужасного в том, чтобы взаимодействовать с государством. Ужасно нечто другое: не исполнять своего христианского долга — когда его уже вполне возможно исполнять — из опасения запятнать себя сотрудничеством с режимом, которого уже больше двадцати лет не существует.