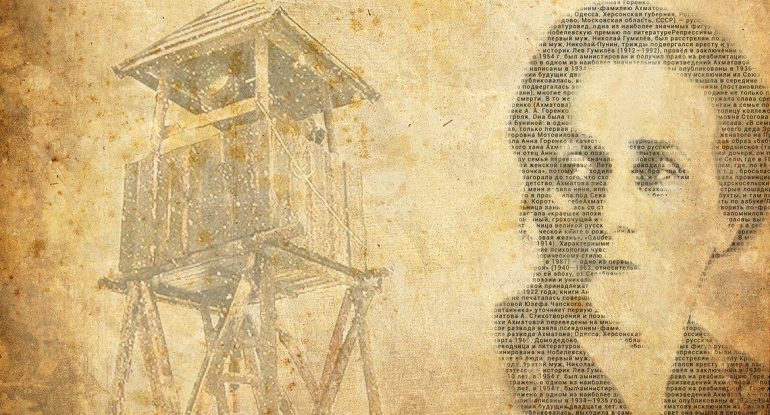Людей, которые помнили бы его живой облик, кажется, уже и не существует, если только столетний актёр Владимир Зельдин не видел его в своём детстве. Навряд ли.

Зато к известной кинохронике растрёпанного, двадцатитрёхлетнего Сергея на открытии пролетарского памятника поэту Алексею Кольцову недавно прибавились кинокадры ухоженного франта на прибывающем в Нью-Йорк пароходе «Париж»... И, к счастью, сохранился его удивительный голос, уцелевший в хрупких бороздках фоноваликов и давно переведённый — сначала на плёнку, на грампластинку, а потом и в цифру. Теперь нам даже известно, что репетируя в драматической поэме «Пугачёв» своего Хлопушу, Владимир Высоцкий опирался и на неожиданное есенинское чтение: драматичное, немного хриплое, страстное, срывающееся.
Слушая голос поэта, мы общаемся с ним, с Есениным, почти напрямую.
Где он сейчас?..
По воспоминаниям Надежды Павлович (которой поведали, что перед смертью Александр Блок кричал, страдая от диких болей — «Боже, прости меня»), оптинский старец Нектарий сказал поэтессе: «Напиши матери Александра, чтобы она была благонадёжна: Александр в раю». И судя по январской — 1918 года — записи того же Блока в своём дневнике, мы узнаём о страшном есенинском признании старшему товарищу по цеху: «Я выплёвываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия)».
«Стыдно мне, что я в Бога верил, / Горько мне, что не верю теперь...» — написал он в 1923-м, незадолго до своей ужасной смерти в гостинице «Англетер». И покаянно просил в этих же стихах, обращаясь к тем, кто будет с ним «при последней минуте»:
Чтоб за все грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.
Миф о нём перерос его живую личность, видимо, еще при жизни. И он сам приложил к этому немало ненужных сил.
«Любовь к розыгрышу, театральность поведения, многоликость Есенина сыграли с ним злую шутку, — писал о нём современный литературовед Павел Фокин. — Многие мемуаристы знали и видели лишь одну-две маски поэта, редко кому удавалось застать его „вне образа“, да и тогда не всякому было доступно проникнуть в эту потаённую душу. Лирический герой часто помогал заполнить лакуны, но ведь и лирический герой Есенина — многолик... И где искать правду? И каково истинное лицо поэта?»
Да ведь и слово «народный», которое давно и справедливо соединилось в сознании читателей нескольких поколений с этим именем, поворачивается, в применении к Есенину, то так, то эдак. Ну кого еще из поэтов прошлого века так по-свойски и вместе с тем не без домашней нежности называли и называют по имени — «Серёжей»?
С Цветаевой и несколькими шестидесятниками — в интеллигентской среде — это понятно: Марина там, или Андрей (Вознесенский). А на улице?
Вот с ним да с «Володей» Высоцким, пожалуй.
Непубликуемые при Советах московские поэты эпохи «застоя» ухватывали и переворачивали сей феномен изящно и броско: «В этом месте, веселье которого есть питие, / За порожнею тарой видавшие виды ребята / За Серёгу Есенина или Андрюху Шенье / По традиции пропили/ Очередную зарплату...» (Сергей Гандлевский).
В дневнике Корнея Чуковского, который Есенина немного знал, есть примечательная запись о не таком уж и давнем времени, о 1962 годе.
В день записи писатель был в престижном советском пансионате «Барвиха», и по своему обыкновению, сидеть без дела не мог.
«Я сдуру выступал перед барвихинской публикой с воспоминаниями о Маяковском. Когда я кончил, одна жена секретаря обкома (сейчас здесь отдыхают, главным образом, секретари обкомов, дремучие люди) спросила:
— Отчего застрелился Маяковский?
Я хотел ответить, а почему вас не интересует, почему повесился Есенин, почему повесилась Цветаева, почему застрелился Фадеев, почему бросился в Неву Добычин, почему погиб Мандельштам, почему расстрелян Гумилев, почему раздавлен Зощенко, но, к счастью, воздержался...»
Словом, независимо от того, добровольным был тот уход из жизни или насильственным, об этом «почему» забывать тоже нельзя.
Но мы не забудем: несмотря на все маски, мучения, опасные игры с самим собой и другими, поздние кощунственные декламации и отречения, нелепые броски в человекобожие, разнообразные мрачности и т. д. — лучшее в его поэзии убереглось для его чистосердечных талантливых читателей. И убереглось немало.

К слову сказать, Есенин-то — в объеме своём — не прочитан: ну кто заговорит нынче об «Анне Снегиной», например? За редкими исключениями — почти никто.
Опираться на выхваченные из его текстов цитаты (в том числе прозаические, вроде поздней «Автобиографии») тоже, видимо, надо аккуратно, обдумчиво.
Не зря же, приведя есенинское признание о своих ранних годах («В Бога верил мало. В церковь ходить не любил»), Михаил Дунаев в книге «Православие и русская литература» добавил:
«...целиком полагаться на это позднее его утверждение — значит признать полным лицемерием его религиозные по духу стихи. А они слишком искренни, чтобы быть поддельными».
И дальше — о том, как верно передавал наш великий поэт всю наивность и непосредственность веры простых людей с их прямодушными и отчасти бытовыми представлениями о святости и Божией правде. Здесь — и о чудесном стихотворении «Шёл Господь пытать людей в любови...», о народном апокрифе, когда Спаситель в облике нищего двинулся по российским дорогам и повстречал на пути древнего деда, «жамкающего» беззубым ртом зачерствелый кусок хлеба.
Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой, —
Знать, от голода качается, болезный».
Подошёл Господь, скрывая боль и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь...
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй... маленько крепче будешь».
Конечно, Есенин остаётся с нами. И щемящий, осиянный образ древней колокольной Руси, пронизанный криками птиц, гудением ветра, луговыми волнами трав и мельтешеньем тех самых берез и осин; все её запахи, краски, реликтовые боли и радости, её причудливая и вместе с тем прозрачная религиозность, — эта гениальная — во многих своих проявлениях — лирика вобрала и растворила. Иные есенинские стихи читать без комка в горле не получается даже у нас — людей эпохи айфонов и валютных курсов, — так они хватают за душу. Да вы и сами это прекрасно знаете.

И трижды прав упомянутый выше литератор П. Фокин, написавший о нём очень горькую, если не сказать жёсткую статью под примечательным, «достоевским» названием «Свидригайлов. Молодые годы»: «В самом имени его — Сергей Есенин — столько весеннего света, ясности, тепла, сердечности». Но это — ещё о только вступившем на путь.
До фразы «Я всё себе позволил», до смертной тоски, заполонившей душу, оставалось время. Потом и оно закончилось. А вечность — осталась той же, как и всегда.
Были мы недавно с сыном в Константинове.
Там почти всё — новое, почти всё — после. Но есть многократно перекладываемый амбар из мощных бревен, помнящих поэта. Мы подошли, я приложил руку к древнему срезу. «Есенинское тепло?», — добродушно спросил кто-то.