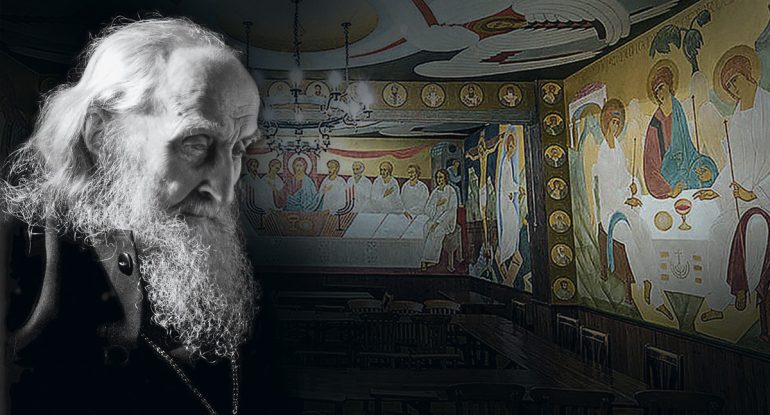Год назад — в феврале 2011 года — было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний и Русской Православной Церковью. Документ носит рамочный характер и во многом закрепляет те формы взаимодействия Церкви и государства, которые уже успели сложиться к моменту его подписания. Первая годовщина соглашения о сотрудничестве — повод поговорить о текущей ситуации в деле тюремного служения в России: о возможности появления института тюремных капелланов, о зарплатах священников и о многом другом. На вопросы «Фомы» отвечает заместитель директора ФСИН России Алексей Величко.
Год назад — в феврале 2011 года — было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний и Русской Православной Церковью. Документ носит рамочный характер и во многом закрепляет те формы взаимодействия Церкви и государства, которые уже успели сложиться к моменту его подписания. Первая годовщина соглашения о сотрудничестве — повод поговорить о текущей ситуации в деле тюремного служения в России: о возможности появления института тюремных капелланов, о зарплатах священников и о многом другом. На вопросы «Фомы» отвечает заместитель директора ФСИН России Алексей Величко.
Система растет снизу вверх

Фото Владимира Ештокина
— Можно ли ожидать в обозримом будущем появления института тюремных капелланов, наподобие военных?
— Я бы не стал ставить вопрос именно так — об институте тюремных капелланов. Мне и сам этот термин не очень нравится. Он сугубо западный и подразумевает именно характерную для западных стран систему участия священника в жизни исправительных учреждений. В Европе тюремный капеллан — не столько тот, кто призван заниматься духовно-нравственным просвещением, сколько в целом один из тех, кто наряду с другими сотрудниками обеспечивает процесс отбытия наказания. А это несколько другой акцент, что влияет на восприятие священника осужденными. Тюремный капеллан, например, следит за поддержанием порядка в колонии, у него есть ключи от всех камер, он может наложить дисциплинарное взыскание. Он получает зарплату как государственный служащий. И для западных стран это — нормально. Никто не смотрит за это на капеллана косо. Наша страна прошла через период жесточайшего восьмидесятилетнего разрыва междугосударством и религиозными организациями, в том числе и Русской Православной Церковью. И у нас тюремный священник едва ли сможет стать сотрудником структур ФСИН. Во-первых, с правовой точки зрения священник не может быть госслужащим. А во-вторых — и это главное — наши осужденные потеряют доверие к священнику, если он будет сотрудником ФСИН.
— Вам кажется, что для нашей страны это нормально или все-таки лучше, чтобы было, как на Западе?
— Не могу сказать, что это нормально, потому что в воровских традициях, дошедших до нас еще из 30-х годов ХХ века (типа «разговаривать с ментом западло» и т. д.) ничего нормального нет и быть не может. Но в то же время не думаю, что нам нужно непременно стремиться прийти к западной системе. Это было бы нецелесообразной тратой сил.
— Почему? Так сложно?
— Слишком глубока та рана, которую нанесли восемьдесят лет безбожия. Начиная с Гражданской войны, мы окунулись в совершен но новую для себя область бытия, почти фантастичную для жителей нашей страны того времени. Мы стали строить концлагеря, отменили презумпцию невиновности, ввели презумпцию классовой вины, и при этом резко снизили порог уголовной ответственности, то есть сажать стали даже за мелочи. Эта вакханалия породила невиданную по масштабам криминализацию общества. У нас в каждой третьей семье хотя бы один дальний родственник когда-либо отбывал наказание. Лично я вырос в небольшом периферийном городке, где присутствие в нашем окружении бывших осужденных казалось нам, мальчишкам, чем-то столь же естественным, как присутствие дедушки и бабушки. До революции криминальный мир был достаточно замкнутым, своего рода кастой. У нее были свои законы, но они не распространялись вовне. А после революции реалии из жизни организованной преступности стали проникать и в жизнь обычных людей. И мы это видим до сих пор, к сожалению. Посмотрите вокруг себя — даже те, кто никогда не сидел, в целом поймут, если к ним обратятся «на фене». А шансон, который на самом деле называется «блатняк» и который стал сегодня самым популярным жанром, — разве это не примета времени? А высокие рейтинги фильмов про бандитов и ментов — что это, как не признак процесса криминализации общества? На таком фоне рассуждать о том, нужна ли нам западная система, мне кажется, повторюсь, нецелесообразной тратой сил. Надо просто работать и пытаться менять ситуацию здесь и сейчас, в сложившихся условиях.
— Какие усилия со стороны ФСИН можно предпринять, чтобы выстроить систему эффективного тюремного служения.
— Если мы будем пытаться «выстроить» систему искусственно, в кабинетах ФСИН, мы ничего не добьемся. Только хуже сделаем.
Ведь в нашей стране опыт тюремного служения — совершенно особенный. До 90-х годов прошлого века священников вообще не пускали в тюрьмы. Потом двери открылись — в силу естественных причин: стало очевидно, что без участия Церкви — то есть без духовно-нравственной составляющей — уголовно-исполнительная система существовать не может. Более того, оказались нужны именно священники — те, кого осужденные не ассоциировали бы со структурами ФСИН. Таков закон криминального мира: любой мой коллега, как и я сам, — это жесткий оппонент, антипод для того, кто отбывает наказание. А вот священник — не просто «нейтрален», он принципиально другой, «не от мира сего». В нем чувствуется сакральность его природы, особая благодать, харизма. И именно в силу этого он вызывает доверие, ему готовы открыть душу. Это потрясающе: осужденные могут не верить вообще никому на свете, но в том, что священник не позволит себе раскрыть тайну исповеди, они повсеместно абсолютно убеждены. И исповедуются, не опасаясь за свое будущее. Так вот, когда Церковь в 1990-е принялась сваивать тюремное служение, началась естественная — подчеркиваю, естественная интеграция со структурами ФСИН. Она началась не в московских кабинетах, а снизу — сама собой. Просто тот или иной священник решал, что нужно посещать узников, приходил в колонии и искал, где он востребован. Так к сегодняшнему дню образовался пока еще очень тонкий пласт опыта взаимодействия Церкви и государства в деле тюремного служения. Не могу сказать, что он носит системный характер. Пока всё — эклектика. В одной епархии так, в другой — по-другому. В третьей вообще ничего делать не хотят… И свою задачу я вижу не в том, чтобы спустить сверху некую общую для всех схему и приказать действовать по ней, а в том, чтобы выявить тот опыт, который уже сложился на практике за двадцать лет, вычленить из него все самое главное и интересное и попытаться в тесном сотрудничестве с опытными тюремными священниками распространить на всю страну.
На что способны священники

Фото Владимира Ештокина
— По статистике, большинство осужденных сегодня отбывают наказание по тяжким и особо тяжким статьям. Говорят, это красноречивый диагноз сегодняшнему обществу. Как это сочетается с тем, что Церковь уже двадцать лет свободно занимается тюремным служением? Получается, Церковь не справляется?
— Двадцать лет — не такой большой срок для того, чтобы коренным образом переломить ситуацию. Усилия Церкви — огромны: священники, которые окормляют колонии, трудятся на пределе своих возможностей. Но даже эти усилия пока неадекватны скопившимся проблемам и тем разрушительным процессам, которые сегодня происходят в обществе. Не хочется повторять банальности о том, что базовые нравственные ориентиры преданы забвению и для большинства наших граждан десять заповедей — всего лишь красивая абстракция. Каждый и так может это видеть вокруг себя. Вот пример из моей практики. За последние десять лет, которые можно счесть относительно благополучными для страны, в портрете среднестатистического осужденного появилась одна существенная черта: это человек либо из неполной семьи, либо из неблагополучной,
либо из детдома, либо беспризорник. Таких — не менее восьмидесяти процентов. Эти цифры говорят сами за себя — на каком фоне Церковь
ведет свое тюремное служение. В нашей стране сегодня около тысячи исправительных учреждений, в них около пятисот храмов и четырехсот молельных комнат. Есть священники, которые появляются там лишь изредка, а есть те, кто ходит туда и только туда каждый
день. И вот эта категория мне представляется наиболее интересной. Потому что они в колонии реально могут ломать тенденцию — даже если это колония строго режима. Они в течение краткого времени практически искореняют, казалось бы, неискоренимые для зоны вещи: например, «опускания» — то есть изнасилование мужчины мужчиной. К Чаше на Литургии осужденные подходят в независимости от своего криминального «статуса», и причащаются они вместе с офицерами, а это реально снимает напряженность в отношениях двух противоборствующих» сторон. Даже рецидивисты могут круто поменять свою жизнь — и войти в состав клира. Я лично знаю несколько таких диаконов. Другой известный пример: в Заволжском мужском монастыре в честь Честного и Животворящего Креста
Господня, наместником которого служит архимандрит Георгий (Шестун), — двенадцать братьев. Шестеро из них — бывшие осужденные. А другие шестеро — бывшие сотрудники внутренних органов.
— Значит, проблема в том, что не хватает именно самоотверженных тюремных священников?
— Именно. Кадры, как всегда, решают всё. У Церкви нет возможности содержать за счет епархии штатных священников при каждом тюремном храме. У ФСИН тоже нет возможности взять все финансовое бремя на себя. Приходится искать некий средний путь. Некоторым священникам мы находим возможность помогать матеиально: заключаем с ними договор на обеспечение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию.
— Получается, священники получают зарплату в структурах ФСИН? Но ведь именно это, как говорят, подрывает доверие осужденного к священнику. Ведь теперь батюшка как бы напрямую зависим от тех, кто платит ему деньги…
— Священник, который получает по такому договору деньги от ФСИН, не является штатным сотрудником той или иной колонии. Хочу это особо подчеркнуть. Он все равно остается внесистемы «осужденный — надзиратель». И это важно, потому что именно на этом основывается особое отношение к священнослужителю. Что же касается материальной помощи священникам, то лично я вижу, как эта практика востребована в регионах. Осужденных это не смущает. Более того, эту практику благословляют правящие архиереи. А это мне, как верующему, доказывает, что она не только не порочна, но даже перспективна.
Не осуждать осужденного
— Само слово «осужденный» подразумевает, что человека осудили. Но христианская совесть требует не осуждать никого. Как эти вещи сочетаются лично для Вас как для верующего?
— Грех — осуждать другого человека. Но не грех — осуждать его дурной поступок. Если человек поступает плохо, мы же видим, что это плохо. Значит, есть некая шкала ценностей, по которой мы этот поступок оцениваем и можем осудить как неправильный. Православный принцип «ненавидеть грех, но оправдывать грешника» воплощается в том, что преступление, в соответствии с Уголовным кодексом, нужно осудить, а вот преступника — пожалеть как оступившегося брата во Христе.
— Как это должно проявляться на практике?
— Нельзя к осужденному относиться, как к скоту. Приходится признать, что и в системе ФСИН работают далеко не только ангелы. В каждом учреждении висят так называемые «черные стенгазеты», где указаны сотрудники, совершившие должностные преступления, —они проносили осужденным наркотики, водку, телефоны, помогали в незаконном освобождении. Они, на мой взгляд, хуже преступников. Они предатели. Кроме того, есть люди, которые не скрывают, что пришли в уголовно-исправительную систему, чтобы ощутить собственное всевластие. Вот идет осужденный — отчего бы не дать ему под дых? Или упечь в штрафной изолятор. Или за небольшую провинность наказать чересчур жестоко. Такой сотрудник в осужденном не видит человека. Для него он только зэк, что-то мутное и мертвое. А это — скотство. Ведь у осужденного человека, как и у любого другого, есть свои права — несмотря ни на что. И есть границы, которые нельзя переходить. Как достичь такого понимания? Как воплотить в жизни этот важный принцип? Только через участие Церкви в жизни той или иной колонии. Потому что мате риалистическое восприятие мира совсем не способствует укреплению братской любви.
За пределами храма
— Кроме работы в качестве замдиректора ФСИН России, у Вас есть и еще одна ипостась. Вы — историк, специалист по Византии. Как Вы сочетаете такие разные сферы деятельности?
— Византология — это любовь. А любовь невыбирают. Кроме того, византология — сильнейший духовный допинг. Говоря наукообразно, для меня это средство опытного укрепление веры историческими формами, апробированными тысячелетней жизнью. Как представишь, что это государство существовало в рамках одной государственной религии и что цели государства были посвящены тому же, что и цели Церкви… Когда увидишь, какое удивительное по красоте политическое устройство эта симфония властей создала… И тут же воображаешь, что же могли чувствовать люди верующие, для которых в природе в принципе не существовало таких понятий, как атеизм и атеисты… Я госслужащий, а значит, работаю ради благоустроения государства — и опыт византолога преломляется для меня и в профессиональной сфере. Ведь в нашем обществе утрачена вера буквально во всё. Мы сильно обольщаемся, когда говорим, что в нашей стране есть православная культура (или мусульманская, или буддийская, или иудейская)… По-моему, в реальности их нет, как нет массовых элементарных знаний о своей вере. Сколько людей из тех, кто носит крестик, сегодня знает наизусть Символ веры? Воцерковленных людей в разы меньше, чем верующих. А каковы такие верующие — и чем они уж так сильно отличаются от атеистов… И вот на фоне такой картины изучаешь историю Византии и понимаешь: так было не всегда! Была страна — не сказочная, а реальная — где все было по-другому. Церковь почитала императора, а император сознавал себя частью Церкви. И это была любовь, которая, по апостолу Павлу, «не ищет своего». И никто не предлагал: «Давайте разделим: есть Церковь, а есть обычная жизнь. По воскресеньям я христианин, а в остальное время — бизнесмен, политик, сотрудник ФСИН…». У нас же сегодня, как правило, всё именно так. Нам нельзя забывать, что Церковь — не институт и не сегмент культуры. Христова Церковь — это сама жизнь. А значит, заповеди Христа должны действовать в нас и за пределами храма. И вот когда мы эту простую мысль в себе укореним, что-то в нашей жизни может начать меняться.