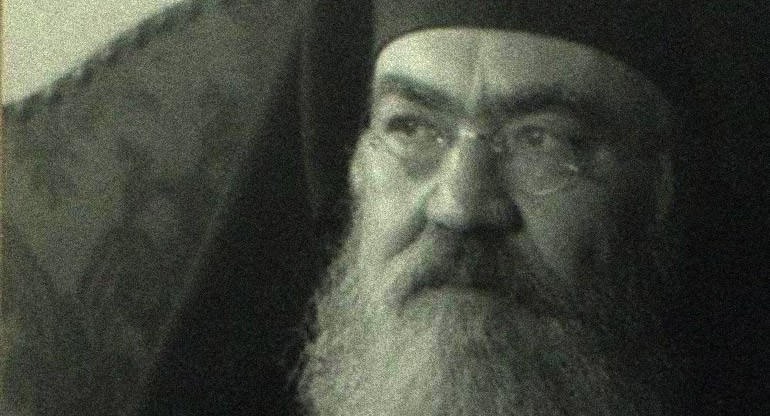Психолог Людмила Петрановская о Великой отечественной войне и народных травмах
Мне давно хотелось написать о войне. Но поговорить не о том, кто кого, не о битвах и даже не о героях. Мне хотелось поговорить о войне, которая ударила по людям, по целому народу. Взгляд на войну как на травму возник у меня не так давно: в тот момент, когда профессиональный опыт наложился на воспоминания детства.
Я вспомнила «Минуту молчания» по телевизору: проникновенный голос; город замер и все у экранов — молчат, слушают, плачут. Вспомнила песню про «праздник со слезами на глазах» и взрослых, которые и вправду вытирают слезы. Вспомнила, как на 9 мая у всех памятников уже к середине дня горы цветов выше моего роста. Не пойти в этот день с цветами к братской могиле — было немыслимо, хотя никто не заставлял. Мое детство — это начало семидесятых. Тогда минуло тридцать лет, как кончилась война. А люди вели себя так, словно их потеря совсем свежа. Они были в состоянии острого горя.
Точно так плачет на сессии психолога клиент, который много лет назад потерял отца или друга и всю жизнь прожил, не позволяя себе прикоснуться к своей душевной ране. А сейчас вдруг прорвало. И он плачет, с болью и облегчением.
А что получится, если взглянуть на «войну» через призму знаний, накопленных в психотерапии?
Рана от войны
Война стала для народа травмой. Причем травмой самого худшего вида: обширной и очень глубокой. Ведь ни флаг над Рейхстагом, ни пакт о капитуляции не способны были вернуть к жизни миллионы погибших, целые выбитые поколения.
При этом погибали не только солдаты, воины с оружием в руках, осознававшие свой путь. Огромные потери были среди мирного населения: детей, женщин, стариков, которых бомбили с воздуха в эшелонах, морили голодом в Ленинграде…
Гибель невинных, слабых, невоюющих во много крат усилила эту травму. И никакой воинской доблестью тут не утешишься. Победа помогает примириться со смертью солдата, но не со смертью ребенка. И судьба этих невинных страдальцев, которые не просто умерли, а были замучены (и ты ничем не мог им помочь) — для человека очень сильный травмирующий фактор.
А оставленные отступающей армией территории, на которых были люди? «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» — травма, отягощенная виной, всегда очень сильно и долго болит.
Но самым страшным стало то, что глубокая и тяжелая рана была еще и инфицирована. Известно, что человек легче переносит травму, нанесенную чужим человеком. И с огромным трудом переживает насилие со стороны близких: родителей, старших братьев, сестер — тех, кто ассоциируется с защитой и безопасностью. Девочку, на которую напал чужой дядька в лифте, гораздо легче реабилитировать, чем ту, которую избил отец. Потому что тогда насильник и защитник соединяются в одном лице. Состояние, при котором человек не может разделить в своем сердце любовь и ненависть, сплавленные в единое целое, называется амбивалентностью. Оно одно из самых мучительных душевных состояний, с трудом поддающееся осознанию и исцелению.
Травма войны — классический случай амбивалетности. Ведь о штрафбатах, СМЕРШе, штурме высот ко дню рождения Сталина, о брошенных в окружении и о практике побед путем заваливания дотов противника пушечным мясом знали многие. Не говоря уже про развал армии, наглую ложь населению про «малую кровь и чужую территорию». (*Редакция «Фомы» считает необходимым заметить, что «общеизвестные факты» о войне, на которые ссылается автор, — такие, как зверства СМЕРШ, массовые бесчинства наших войск по отношению к гражданскому населению Германии, штурм высот ко дню рождения Сталина и проч. — отнюдь не являются общепризнанными научными данными. Работы Бориса Соколова, к которым апеллирует автор статьи, скептически оцениваются историками-профессионалами. К сожалению, серьезных исторических исследований, свободных от той или иной идеологической предубежденности, очень немного, и подлинную правду о войне мы узнаем еще очень нескоро. Дело тут не только в том, что многие архивы до сих пор не раскрыты, но и в том, что далеко не всякий исследователь готов отрешиться от своих стереотипов и начать непредвзятое изучение вопроса, не боясь нападок ни со стороны «сталинистов», ни со стороны «либералов». — Ред.)
Свидетельством тому являются многочисленные воспоминания ветеранов и современников, опубликованные позднее документы, приведенные источники в работах ряда историков, в частности Бориса Соколова, книги которого имеют большой отклик у части общества. Достаточно вспомнить мемуары Эйзенхауэра, в которых он приводит ответ Жукова на вопрос «Как вы разминируете минные поля?» — «Очень просто, гнали пехоту на минное поле, «как будто бы его там не было».
А многого не знали наверняка — о банкетах в блокадном Ленинграде, о предательстве своих, — но чувствовали.
Я знаю, что есть немало историков, которые опровергают все это, приводя «железные» доводы: ни в одном официальном документе не зафиксировано, что был приказ брать город к дню рожденья Сталина, значит, этого не было. А СМЕРШ — по документам — был создан совсем для другого. Простите, но этот «научный» подход лично меня не впечатляет. А то, что он впечатляет других, — еще одно свидетельство неоднозначного воспрития прошлого в нашем обществе.
Как психолог, я знаю одно: инфицированные раны не заживают легко. Они долго кровоточат и ноют всю жизнь. Потому их так важно очищать. При терапии амбивалентности главная задача врача — отделить любовь от ненависти и назвать вещи своими именами. А вот с этим все было очень плохо, какое уж тут называние в СССР…
Радуга
Любая травма, тем более война — рушит образ мира, вносит в жизнь хаос и чувство беззащитности перед силами судьбы. Весь этот болезненный опыт надо осознать, чтобы жить дальше. Это большая душевная работа, занимающая порой годы. И чем больше «масштаб поражения», тем дольше длится реабилитация. Шок, отрицание, осознание, восстановление — стадии, которые переживает человек. Только пройдя их все, можно полностью исцелиться и не тащить груз травмы в будущее.
Первая задача, которая решается в ситуации травмы, — выживание. Сознание как будто выключает «лишние» функции. Анализировать, тонко чувствовать — не время. Наоборот, на этапе выживания мы можем не есть, не спать, не чувствовать боли, холода, а главное — выполнять то, на что были неспособны в обычной жизни. Так было и в войну, и после войны: чувства «приморожены», значимое стало «не так важно». И все подчинено одной цели — скорейшему выходу из травматической ситуации.
Горе тогда стало непозволительной роскошью. Некогда оплакивать мертвых, некогда горевать по загубленной молодости, чувствам, расстроенным планам, копаться в себе некогда.
Помню впечатление, которое произвела на меня в подростковом возрасте книга Ванды Василевской «Радуга». Она была написана прямо тогда, в 1942 году. Мать ходит проведывать труп убитого сына-солдата. Другая — закапывает своего застреленного мальчика прямо в сенях дома. Там земля не промерзшая. И ходит по этим сеням. А куда денешься? Еще одна — ненавидит своего нерожденного ребенка, потому что он плод изнасилования врагом. И у всех почти никаких чувств: нашла лопату, вырыла могилу, положила сыночка, закопала. Дикая, запредельная травма. В психологии это называется «стадия шока». Все это в тысячи раз превышает масштабы того, от чего в обычной жизни люди просто сходят с ума. И название-то у книги какое — «Радуга».
Никакого праздника, или народ безмолвствует
Только когда прямая угроза позади, начинается стадия проживания травмы.
Все из нас знают про Парад Победы 24 июня 1945 года, но мало кому известно, что День Победы как великий праздник был отменен Сталиным уже через два года после войны, в 1947 году, и возобновлен лишь при Брежневе, в 1965 году. Не было выходного дня, парадов и поздравлений ветеранов, никаких мемориалов, минут молчания, возложения цветов — ничего. Все объединения ветеранов, которых тогда было много, — запрещены. Изучение событий войны, публикация воспоминаний не приветствовались. Про такие трагические события войны вроде Хатыни, Бабьего Яра, Ржева или Аджимушкая не говорилось нигде. О них мы узнали много-много лет спустя. Страшная война закончилась. Великая Победа одержана. И вдруг заговор молчания.
Очень важно понять, почему сам народ не сопротивлялся замалчиванию победы. Тогда не было никаких официальных встреч школьников с ветеранами, хотя встречи все равно происходили (на коммунальных кухнях). И порой, сильно приняв на грудь, ветераны рассказывали всякое… Но большинство — травили байки или просто отмалчивались, мол, война и есть война, чего там рассказывать. Книги, подобные «Радуге», после войны не появлялись или как минимум не публиковались. Все новые фильмы были бравурными и лирическими.
В психотерапии травмы это называется — «стадией кажущейся реабилитации», или «стадией отрицания». Ее признаками по учебнику являются: «улучшение самочувствия, эмоциональный подъем, чувство начала “новой жизни”, подавление воспоминаний, обесценивание травмы, рационализация (объяснения, почему все было так, как было и иначе быть не могло)». Однако при этом так же наблюдаются «чувство беспомощности, инфантильные реакции, импульсивность поведения, резкие немотивированные перепады настроения, проблемы с аппетитом (отсутствие или переедание) и другое». Многое из перечисленного легко найти в тогдашней действительности: и страх перед фронтовиками, которые могли неожиданно «взорваться», и явный глуповатый инфантилизм послевоенных «военных» фильмов, и даже показное обжорство в «Кубанских казаках» (1949).
«Отрицание» выполняет роль анестезии, обезболивания, дает передышку после травмы, позволяет укрепиться в жизни после путешествия в ад. И чем безопаснее обстановка, в которой оказывается человек, чем больше его внутренний ресурс, тем скорее найдутся у него силы для проработки горя. Но именно с этим в стране было плохо.
Жизнь не спешила налаживаться. Безопасности никакой, напротив, новая волна репрессий конца 40-х — начала 50-х годов («ленинградское» и «мингрельское дело», «дело врачей»). А еще — внятное требование сверху: не помнить, не говорить, не касаться болезненной темы. В результате — застревание на стадии отрицания, которое вместо спасительной передышки стало искусственной заморозкой на годы.
Психологи сразу видят таких людей — зажатая мимика, никогда полностью не раскрывающийся рот, обедненные интонации, неестественность реакций. Именно такими мы видим героев фильмов последних сталинских лет. Все меньше чувств, все больше лозунгов. Герои — марионетки. Мы этих фильмов и не помним толком. Ведь шедеврами кинематографа их не назовешь.
Амбивалентность здесь была сильным отягчающим обстоятельством. И работала так же, как в ситуации с детьми, пострадавшими от жестокости близких. Дети либо вообще ничего не помнят, либо помнят, но не могут об этом говорить вплоть до потери голоса. При этом одни сознательно обесценивают пережитую боль: подумаешь, лупили, да мне нипочем. Другие рационализируют: значит, так надо было, как же без строгости. И чтобы вслух сказать: это было со мной, я пережил насилие — требуется немалое мужество и поддержка извне. С народом было то же. Если продолжать аналогию с раной, отрицание подобно пластырю. Если инфицированную рану плотно заклеить, некроз тканей обеспечен. Вот и здесь не обошлось. Многое отмерло. Живое и теплое, лучшее — и до сих пор не восстановилось.
И все-таки народ — не один человек. Всегда есть более сильные, с большим ресурсом. У кого-то была хорошая семья, друзья, талант, вера, наконец, или культура, которая питала их душевными силами. Так или иначе, как только появилась возможность — прорвало.
Один за другим стали выходить фильмы: в 1956 году — «Судьба человека». Не о битвах, а о потерях и одиночестве. В 1957 — «Летят журавли». По сути, первый фильм, говорящий о том, что люди чувствовали: о боли, горе и потерянной жизни.
В начале 60-х появляются первые публикации «военной прозы»: Быков, Воробьев, Васильев, Бакланов.
В 1965-67 годах (то есть спустя двадцать лет после окончания войны) происходят важнейшие события. На государственном уровне восстанавливается праздник День Победы. Создается мемориал «Могила Неизвестного солдата» у стен Кремля. Выходит передача «Минута молчания», имеющая статус всероссийской акции. Она транслируется по радио и телевидению как дань уважения подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Начинает работать проект Агнии Барто «Найти человека». И еще много фильмов, книг, статей…
Появляются такие целительные, с точки зрения психологии, и очень нужные людям ритуалы, как посещение братских могил, возложение цветов, Минута молчания.
Потребность целого народа находит вдруг выход через нескольких людей (тех, которые готовили первую «Минуту молчания», и первый после 45-го года Парад Победы), которые почувствовали и воплотили общее стремление вместе оплакать потери. «Это был не текст, а молитва», — вспоминает диктор центрального телевидения Ирина Дмитриевна Казакова о подготовке «Минуты молчания».
Это важно: у народа действительно была перекрыта одна из самых важных возможностей восстановления после травмы — через веру, через обращение к Богу. Конечно, вдовы и матери ходили тайком в церкви, ставили свечи. Но общая трагедия разрешается только в общей молитве и в общих слезах. Сражались вместе, умирали вместе, победили вместе, а плакал и пытался найти смысл всего этого горя каждый втайне от всех. Иногда и от самого себя. «Вместе» предлагалось только гордиться. Но попытка отменить горе торжеством, утешаться не верой, а гордостью — это попытка торга. Это взаимозачет: «погибли — зато победили». Такая попытка отвергается душой. Ребенок, которому очень плохо, сердится, плачет и бьет родителя, пытающегося его обнять. И лишь потом, наплакавшись, затихает в объятиях. Никакого другого пути изживания горя просто нет. Это вопрос Иова. Вопрос, который каждый раз решает для себя человек, потерявший самое дорогое. И ответом на него не могут быть доводы разума, но только утешающее присутствие.
Чтобы продвигаться по этому пути, очень важно иметь возможность погрузиться в переживание горя полностью, не скрываясь, не «держа лицо». Важно знать, что ты не один, что рядом люди, которые тебя понимают и чувствуют то же самое. Они не говорят никакого «а зато» и никакого «так было надо». Они просто плачут с тобой рядом и просят Бога за своих любимых теми же словами, что и ты. Именно таким опытом стала Минута молчания — единое общенародное горевание-молитва: в один и тот же час, одними и теми же словами, не пряча слез, каждый о своем и все вместе — об общем.
На произошедшие перемены народ откликнулся страстно, всей душой. Мы на самом деле плохо представляем себе, чем обязаны всем тем людям 60-х, которые дали темной, настоявшейся уже от времени стихии горя, слова, образы, формы, выход. Именно они спасли людей от душевной гангрены.
Наступила стадия осознания. Ее признаками являются: «“переполняющие” чувства, потребность говорить о них; желание воспроизвести детали; полнота и яркость воспоминаний, компенсаторная агрессия; проживание гнева, вины и переход от вины к ответственности». Именно эта работа была проделана целым народом в последующие двадцать лет. Осознание стало тяжелейшим трудом, потребовавшим немало сил. А коллективными терапевтами стали люди культуры: писатели, режиссеры. Их было много. Тогда вышла повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» (1968), «Сотников» Василя Быкова (1970), «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина (1977), фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965), «Белорусский вокзал» (1970), «В бой идут одни старики» (1973), «Иди и смотри» (1985). А еще песни, стихи: Окуджава, Высоцкий… Это было не самовыражение и не творчество в прямом смысле. Эти люди должны были сказать за всех и для всех: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны…».
Именно тогда общенародным делом стало «вернуться на место происшествия и воспроизвести детали». Появились поисковые отряды и созданы были мемориалы: Хатынь, Пискаревское кладбище, Брестская крепость. Люди ехали на места сражений в свои отпуска и выходные, вели детей, не боясь их ранить. Это была потребность осознания. Да, больно, но надо.
И лишь одно умалчивалось еще очень долго (пресловутая амбивалетность!) — насилие и предательство своих. Никто не говорил о том, что и Родина-мать порой становилась убийцей. Об этом упоминалось вскользь, косвенно: «Нам говорили: “Нужна высота!” и “Не жалеть патроны!”. Вон покатилась вторая звезда — вам на погоны». Это Высоцкий.
Наверное, потому «очищение раны» так долго не происходило. К тому же сверху по-прежнему настойчиво звучало: травма была и вся вышла. Мы победили. Это главное.
Последнее табу слетело только в 90-е. Вот тогда хлынуло все то, что было написано раньше, но не увидело свет. Впервые вслух стали говорить о «штрафбате», «особом отделе», Катыни, фильтрационных лагерях и многом еще.
Труднее всего было вспоминать о зверствах уже советских солдат на освобожденных территориях. Ведь это уже не травма пострадавшего, а травма насильника, или травма свидетеля. И здесь снова всплывает отрицание и гнев. И люди агрессивно бросаются друг на друга, готовые глотки перегрызть из-за событий шестидесятипятилетней давности. Значит, еще болит. Рано или поздно с этой частью травмы тоже придется разобраться, иначе никак.
Завершилось ли «очищение»? Все-таки нет. И сегодня есть множество совсем молодых людей, которым так хочется ясной картины мира, где есть хорошие мы, плохие они и великая Победа. А остальное — предательство памяти павших. И это понятно. Гордость приятнее боли. Тем более что гордость эта досталась даром, без жертв, без усилий, благодаря предкам. Но, отказываясь разделить с предками их боль и муку амбивалентности, желая взять из прошло лишь ясное и приятное, разве не совершаем мы предательства еще большего?

Фото из архива ИТАР-ТАСС
Почему наши дети так бесчувственны
Восстановление — всегда последняя стадия травмы. Тогда приходит осознание произошедшего как части опыта; происходит переход от роли «жертвы» к роли «пережившего»; возникает желание помочь другим пострадавшим или предотвратить повторение. В начале этой стадии человек стремится отвлечься, переключиться, «больше не думать об этом». В 1980-е люди впервые начали переключать телевизионный канал, наткнувшись на фильм про войну. А 9 мая ездить на дачу или в лес на шашлыки.
Новый мемориал на Поклонной горе так и не стал сакральным местом. Скорее, удачной площадкой для катания на роликах. В своем большинстве современные дети не были ни в Хатыни, ни на Пискаревском кладбище. Они толком не знают — что это. Им не интересны фильмы о войне. А родители, наблюдая это, переживают и злятся.
Однако с точки зрения проживания травмы происходящее — естественно. За то, чтобы когда-нибудь кошмар этой травмы кончился, молодежь 40-х платила жизнью, а сверстники 60-70-х — душевной работой и слезами над книгами. Нынешнему поколению, видимо, придется платить некой эмоциональной притупленностью — георгиевской ленточкой на модном рюкзаке. Что же, значит, такова цена. До нас не выбирали и нам не выбирать.
Безудержное потребительство, которое выглядит малоприятно и наводит на мысль о сугубой бездуховности и деградации, на самом деле тоже часть стадии восстановления. Часто человек в это время начинает больше есть, приобретать обновки, баловать себя непривычными развлечениями. «Возрождение к жизни» идет через тело, через базовые потребности. А если вспомнить, что травма войны была далеко не единственной травмой народа за прошедший век, то стоит ли удивляться повальному желанию «утешиться потреблением»?
Завершает процесс осознание травмы как части опыта, чтобы не допустить повторения. Европа в этой стадии уже давно. Мы еще, увы, не там. Скорее, происходящее с нами похоже на состояние истощения, апатии и паралича воли. Все еще слишком больно.
Сегодня трудно поверить, но когда-нибудь наши дети и внуки будут воспринимать ту войну, как мы воспринимаем войну 1812 года. С интересом, с уважением, с гордостью, но без боли, совсем без боли. Они будут сочувствовать людям, героям книг и фильмов, будут плакать над ними, как мы плачем над дядей Томом или Гаврошем. Но это будет уже общечеловеческое сочувствие, ведь сами они не будут частью трагедии.
В пособии по терапии травмы говорится: «Стадии не линейны и могут меняться… Пережившие травму делают один шаг вперед и два назад… И в то время как одни, двигаясь вперед, начинают контролировать свою жизнь, другие продолжают страдать, борясь с мыслями о травме. Постоянные усилия избежать воспоминаний в буквальном смысле контролируют их существование, истощают и делают невозможной продуктивную жизнь».
Все мы разные, поэтому для кого-то эта душевная работа пока непосильна. И люди прячутся — кто в ура-патриотизм, кто в цинизм, кто в заумь. Упираются, не хотят идти дальше. Но есть чаши, которые нужно испить до капли. И это единственное противоядие. На работу по осознанию травмы человек должен идти сам, добровольно, и тогда, когда чувствует в себе для этого силы. За шиворот туда никого не втащишь. Некоторым нужны годы. Некоторым — поколения.
Лучшая помощь здесь — создание атмосферы поддержки. Поэтому давайте не будем презирать тех, кто носит георгиевские ленточки, и осуждать тех, кто не носит. Давайте не станем смотреть свысока ни на тех, кто жарит шашлыки на даче, ни на тех, кто ходит поздравлять ветеранов. Давайте не злиться сильно на власти, которые спекулируют на этой теме. Ведь все их телодвижения — лишь мелкая рябь на океане народной боли. Наша злость в масштабе травмы тоже слишком мелочна. Не надо ругаться, нападать и клеймить. И если лично вам дано было больше сил, если вы по пути осознания трагедии прошли дальше, не отвечайте на агрессию, не провоцируйте еще большее застревание в травме.
Не надо сердиться на детей за то, что они «не грузятся». Не вините себя, что чувствуете не то и не так, как «надо». Каждый такой момент, когда травма начинает чуть меньше разъедать конкретную семью, конкретного человека — победа. Будем бережнее друг к другу. Здесь мы все: патриоты, космополиты, правые, левые — одно целое. Потому что события нашей истории глубже политики, идеологии, пристрастий и мнений. Это родство и общность судьбы.
Фото анонса www.flickr.com, СПДА