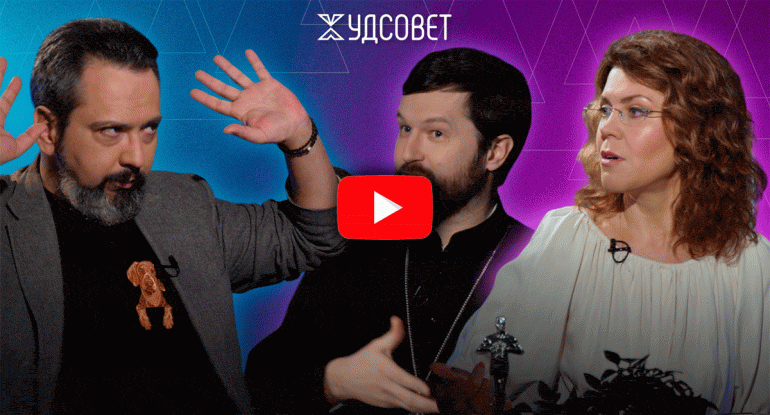Почему насилие современного человека забавляет, а клоун пугает? Отчего преступники вышли в герои, а стратегия уклонения от выбора стала восприниматься как выбор? Об этих и других вопросах культуры постмодернизма на примерах из кинематографа рубежа XX-XXI вв. рассказывает Лев Карахан, кинокритик, продюсер, руководитель киноведческой мастерской во ВГИКе, член киноакадемии НИКА.
Посмотреть все лекции Лектория "Фомы"
Прочитать:
Часть I
Я Лев Карахан, продюсер, кинокритик. Занимаюсь вопросами современного зарубежного и отечественного кинематографа. Я назвал эту лекцию «Мешает ли Тарантино вере в Бога». Достаточно провокационно, как меня просили организаторы этой лекции из журнала «Фома». Но можно варьировать этот заголовок. Ну, например, насколько Тарантино соотносится с верой в Бога, насколько он сопоставим с верой в Бога. При этом Тарантино, как вы понимаете, это не персонаж, который мы видим сейчас на экране, хотя он достаточно выразительно выглядит, специально подобранный для этого фотодокумент. Но это скорее такой обобщенный образ современной культуры, может быть наиболее яркий для того, чтобы представить то, о чем я хочу говорить. И еще дополнительный момент, который делает именно Тарантино таким человеком и художником, который способен персонифицировать довольно широкий круг проблем связанных с современной культурой, — это сама его фамилия, которую он унаследовал от отца, которого никогда не видел. В отличие от отца Джона Леннона, который появился, как только его сын прославился, отец Тарантино так и не появился после того, как Тарантино стал знаменит на весь мир. Но фамилия эта ему очень пристала, я считаю, и этимология этой фамилии очень любопытная, потому что она связана с тарантизмом, то есть безумием. Это в прямом переводе с итальянского. Потому что и тарантелла — это, как вы знаете или, может быть, слышали, в XV веке было своеобразным лечением от безумия, от укуса тарантула. Тарантул сам по себе называется по названию итальянского города Таранто. Так что вот здесь такая довольно любопытная этимология, которая выводит нас потихонечку и к той проблематике, с которой связан Тарантино и его творчество.
Надо сказать, что мне, не знаю, повезло или не повезло — я был на первом просмотре, может быть, самого знаменитого фильма Тарантино — «Pulp Fiction», «Криминальное чтиво» в городе Канны на фестивале. И он так устроен, что основная премьера на этом фестивале... ей предшествует пресс-просмотр, пресса смотрит до того, как основная публика знакомиться с картиной. И вот на этом пресс-просмотре, честно говоря, произошло то, что можно назвать не иначе как культурный шок. Но, по крайней мере, я пережил этот шок, и я знаю, что многие из тех, кто был на этом просмотре, свидетельствовали, что они тоже пережили культурный шок. Например, Константин Эрнст писал про это, что он не знал, как реагировать на то, что происходит на экране. И действительно, то, что происходило в зале, сравнимо с некоторой тарантеллой такой. Потому что люди смеялись, люди свистели, люди кричали, люди топали. Не на протяжении всего фильма, естественно, в некоторых кульминационных местах. Но это была реакция очевидно непредсказуемая и незнакомая самим этим людям.
И я тоже испытывал чрезвычайно противоречивые чувства после того, как я увидел эту картину. Хотя сейчас уже — ну «Pulp Fiction», что такого? Ничего особенного. А что с этим делать, было совершенно непонятно, мозг плавился. Это действительно так было, и я помню, что, когда я вышел в таком несколько эйфорическом состоянии — а мы еще об этом поговорим, потому что эйфория чрезвычайно тесно связано с тем искусством, которое мы сегодня будем обсуждать, — я спросил секретаря ФИПРЕССИ, есть такой Клаус Эдер, немецкий критик, я спросил: «Ну как вам?» Тоже хотелось поделиться, найти отзвуки, отклики, что-то такое, что поможет тебе самому сориентироваться. Я говорю: «Как вам картина Тарантино?» Он на меня посмотрел безумными глазами и сказал: «Я ненавижу этот фильм!» И тем не менее у этой картины масса поклонников. Как вы знаете, она вошла в историю кино и, в общем, до сих пор является картиной знаковой.
Но вот другой факт, который, мне кажется, довольно тесно связан с этой картиной; я имею в виду проповедь патриарха Кирилла, которая прозвучала 20 ноября, — юбилейная проповедь семнадцатого года, в храме Христа Спасителя. Здесь я позволю себе процитировать, чтобы не быть неточным. «Я имею в виду искусство», — он говорил об апокалипсисе, о последних временах и о том, что апокалипсис приближается. Я думаю, что все вы об этом знаете, потому что это довольно широко освещалось в средствах массовой информации, но интерпретировалось очень по-разному. Для меня важно в том, что он сказал, всё, что относится к искусству. А к искусству относятся следующие слова: «Я имею в виду… искусство… которое в последние годы заявляет о некой своей особой роли и о своих правах нести народу искушения и грех, сбивать людей с толку <…> ‘то сползание… в бездну окончания истории». То есть Патриарх Кирилл, Святейший выделил то искусство, которое, как ему кажется, приближает нас к апокалипсису. Прежде он неоднократно говорил о том, что это не установленная дата, он может быть ближе, он может быть дальше, апокалипсис, — это зависит от нас в каком-то смысле и от того искусства, в контакте с которым мы находимся в последнее время.
Очевидно, что искусство Тарантино, а это, безусловно, искусство определенного толка, определенного качества, высокого качества, это тоже нужно подчеркнуть, связано с тем, о чем говорил Патриарх Кирилл и в этой связи или в связи с этим, потому что «в этой связи» — как-то это укоренилось, такая формулировка, но она не очень русская. Мы немножко присыхаем к тем оборотам, которые на самом деле потихонечку разрушают русский язык. Так вот в связи с этим вспоминается цитата из Достоевского, из предисловия к «Братьям Карамазовым», где Федор Михайлович говорит, что хотелось бы найти хоть какой-нибудь толк во всеобщей бестолочи. Вот сбивать с толку и найти общий толк — это огромная дистанция, которая пролегла от XIX века до наших дней. И, я думаю, Достоевскому было довольно трудно представить себе то, о чем говорил Патриарх Кирилл, — что возникнет искусство, которое будет целенаправленно сбивать с толку и не давать найти общий толк во всеобщей бестолочи.
Но если говорить о том вопросе, который я задаю в теме своей лекции — «Мешает ли Тарантино вере в Бога?», — то он, конечно, риторический в значительной степени. И тут позволю себе некоторый опыт интерактива. Как вам кажется, в общем ясен ответ на этот вопрос: «Является ли он...?» Поднимите руки, кому отрицательный ответ на этот вопрос ясен заранее. Мешает ли Тарантино вере в Бога? Не мешает. Но меня, честно говоря, устраивает и тот, и другой ответ, потому что оба они свидетельствуют о том, что вопрос всё-таки риторический. И не риторический он только в определенной своей части. А если мешает, то почему? И не помогает ли он каким-то парадоксальным образом как раз и уверовать или, по крайней мере, установить некоторые отношения с Богом, или понять, что это такое, или углубить те отношения, которые уже существуют. И в этом смысле понятно, что Тарантино... конечно, не с него всё началось, это совершенно очевидно. И если мы уже говорили о Достоевском и о XIX веке, то, конечно же, речь идет о Фридрихе Ницше и о его работе «Так говорил Заратустра» где впервые, как всем кажется, прозвучали слова «Бог умер», а на самом деле он впервые сказал это в «Весёлой науке» за год до того. И поразительное стечение обстоятельств, что в Лейпцигской типографии печать «Так говорил Заратустра» отложили, потому что должны были издать пятисоттысячным тиражом гимны к Пасхе. Это очень смешило Ницше, но, тем не менее, это было так. И вот такое стечение обстоятельств, оно, конечно, тоже по-своему знаменательно.
А если говорить еще дальше о каких-то исторических моментах, связанных вот с этими переменами в нашем зрении, в нашем отношении к Божественной Сущности, то здесь вот сидит Евгений Мамиконян, прекрасный иконописец, и я хотел бы процитировать его работу, связанную с судьбами в современности христианской культуры. Он, мне кажется, замечательно сделал наблюдение, которое отразил вот в этом коллаже. Состоит оно в следующем: обратная перспектива византийских икон, отражающая идею предстояния перед образом, меняется на прямую. И в эпоху Средневековья как бы Бог смотрел на человека, теперь человек стал рассматривать Бога. Вот это совершенно очевидно на двух этих не нуждающихся в представлении произведениях. Конечно, оптика поменялась в значительной степени. Но с чем связана вот эта перемена оптики? Что произошло? Особенно после того как Ницше сказал свои знаменитые слова. А произошло следующее: был потерян общий смысл. Это можно прочесть в любой философской энциклопедии. Бог — это некая централизация представления о мироздании. И можно классифицировать Его, для того чтобы упростить наш сегодняшний разговор, как общий смысл. Вот этот общий смысл существования человеческого, существования Вселенной, он был утерян. Его как бы не стало. Но это не значит, что он перестал существовать как необходимость.
И в этом смысле искусство очень активно, сразу же после этого, в сущности, если говорить о картине Эдварда Мунка «Крик», т. е. через 10 лет после выхода работы Ницше появилась картина «Крик» Эдварда Мунка, в которой самое главное, может быть, — это дистанция между кричащим человеком и теми двумя людьми, которые остаются на втором плане. Один из них в таком длинном плаще, напоминающем сутану, возможно священнослужитель. И вот этот разрыв, вот эта дистанция, она как бы источник этого крика. На самом деле Мунк в своих воспоминаниях пишет о том, что это реальное событие он пережил. Он шел со своими друзьями, чуть-чуть оторвавшись от них, и он услышал этот крик. Этот крик вырвался как бы из него самого, и вот это маска крика (кстати, она потом использовалась уже в массовом американском кинематографе, в частности в фильме «Крик», потом она стала маской на Хэллоуине), она таким ужастиком перешла как бы в современную масскультуру. Но это явная реакция на потерю смысла, на такое невероятное одиночество в оставшемся без общего смысла мире, есть и такая скрытая реакция. Но, смотрите, существует ли общий смысл, если там у нас на картине «Крик» есть человек в длинном плаще, не будем его никак называть, но он важен в этой картине, то смотрите, мы всегда говорим о «Черном квадрате» Малевича, что это черный квадрат, и очень часто забываем о том, что это еще «Черный круг» и «Черный крест». Крест — это не самая распространенная геометрическая фигура. Если следовать логике, то здесь, наверно, должен был быть «Черный треугольник». Тем не менее это крест. Более того, конечно же, эта дистанция, она была очень живой и насыщенной. Особенно в этот период, когда всё как бы только что случилось, и не случайно меня эта информация, честно говоря, невероятно удивила, что Малевич... ну это было причудливое время вообще таких неожиданных идей и может быть даже таких смысловых перехлестов в поисках смысла... Он просил похоронить его в гробу с раскинутыми руками, и проблема была только в том, что плотники не смогли изготовить такой гроб. Но на самом деле вот эта вот открытость небу, которую он хотел продемонстрировать в последний час и после смерти, это было связано в каком-то смысле с космизмом фёдоровским. Но это было связано и с небом в тоже время, с открытостью небу. Вот эта дистанция, она была очень живой, ощутимой и важно,й и поиск смысла был чем-то таким очень необходимым, невероятно существенным для тех, кто его потерял. Непосредственно вот сейчас, 10 лет назад... «Черный квадрат» — это 1913 год, значит, 20 лет назад. То есть это было вот-вот. И это действительно чрезвычайно важно было для тех, кто остался без вот этой поддержки.
Но если говорить о самых известных попытках обрести смысл, этот общий смысл, то я бы назвал две фигуры, невероятно значительные в истории культуры. Это, прежде всего, наверное, Чехов, который апеллировал к практической нравственности, которая как бы заменяла то место, которое занимал Бог. И я, честно говоря, не придавал большого значения в течение всей жизни, я бы сказал, но сейчас как-то осознал это, что Чехов действительно замещал те нравственные ценности своим творчеством, которые давала вера. И вот я помню, что мои бабушки, которые меня воспитывали, я воспринимал только те шутки, которые от Чехова с ними пришли ко мне. Там — «Ай, Приходов кисть сломал» или «тарарабумбия, сижу на тумбе я». Они ориентировались на Чехова и внутренне. И та нравственность... они были людьми достаточно сложно относящимися к вере, но Чехов замещал это место, место веры для них, становился тем нравственным ориентиром, на который они полагались в своей жизни. Мы не отдаем, мне кажется, достаточный отчет себе в том, насколько Чехов важен был в этом смысле и до сих пор важен для отечественной интеллигенции со своими представлениями о практической нравственности и малых делах. Как он говорил, «маленькие и прежде всего практически ответы на те вопросы, которые ставит перед нами жизнь».
И вторая фигура — это, безусловно, Фрейд. Гораздо более сложная, в каком-то смысле одиозная. Человек, который говорил о том, что религия — это невроз боролся всю жизнь, как вы знаете, с комплексом отца, это несложные вопросы, но сам ставший постепенно отцом. Он занял это место как идеолог психоанализа. И это произошло именно потому, что это место было горячо, оно как бы требовала своего демиурга, своего мессию, и кто-то становился таким. Чехов никогда в жизни не претендовал на это место в силу просто своей патологической скромности, в отличие от Фрейда, который, конечно же, внутренне к этому был готов, и все его воспоминания, в том числе работы, об этом свидетельствует.
И что интересно: вот эти поиски смысла, они по-разному оцениваются. Недавно вышла такая очень интересная работа, если вы на нее каким-то образом набредете, познакомьтесь хотя бы бегло, потому что это невероятно интересная энциклопедия этих поисков смысла людей, оставшихся без Бога в XX веке. Это Питер Уотсон, английский автор, известный публицист и философ. Она вышла в четырнадцатом году. Называется она очень выразительно — «Эпоха пустоты». Но название «Пустота» само по себе, конечно же, взывает к какому-то такому не то чтобы критическому, но настороженному отношению. Но для него эта пустота — это повод к креативу. И он воспринимает все эти поиски, которые существовали, с которыми XX век познакомил человечество, как некий как раз креативный, невероятно креативный посыл, с которым интересно иметь дело. И вот что он по этому поводу пишет: «Стремление научиться жить без Бога и найти смысл в секулярном мире представляет собой великую тему, которую развивали наиболее отважные». Прежде всего, естественно, писатели и художники, относящиеся к эпохе модернизма.
Но есть другое отношение, гораздо более критическое, и в каком-то смысле картина «Крик» Мунка подсказана цитатой именно из работы этого автора, очень известной работы. Это Фредрик Джеймисон, один из основоположников, теоретиков постмодернизма. Его работа классическая называется «Постмодернизм, или Логика культуры позднего капитализма». Она вышла довольно давно, в 1991 году, но в этой работе есть важные для нашего сегодняшнего разговора слова: «...картина Эдварда Мунка “Крик”, несомненно, является образцовым выражением грандиозных постмодернистских тем отчуждения, отсутствия ценностей, одиночества, социального распада и изолированности, настоящей программной эмблемой того, что принято называть веком тревоги». Вот здесь совершенно другое отношение, отнюдь не позитивное и не радужное по отношению к креативу, который несет поиск отсутствующего смысла и замещение этого смысла. Потому что поиск для Уотсона — это, конечно же, замещение и позитив связанный с этим замещением. Что касается Джеймисона, то здесь, скорее, тревога, и тревога не только его авторская, но и тревога, которой проникнут весь XX век. Крик на самом деле — это то, чем проникнут XX век. Крик от неудовлетворенности, от отсутствия смысла, от невозможности его найти.
Если говорить о кинематографе, к которому мы медленно, но уверенно приближаемся, то, пожалуйста, самым из великих кинематографистов XX века, самым не заинтересованным в тревоге и самый нетревожный кинематографист в этом смысле — это Сергей Михайлович Эйзенштейн. Потому что он был настолько одержим поиском этих новых смыслов, что тревога, о которой говорит Джеймисон, и тот крик, который был ведом Мунку, совершенно не отзывались в его творчестве. Это совершенно разные миры. Но! Вот поразительная вещь: к старости и — хотя он умер очень молодым — с возрастом пришло понимание все-таки сложности этого вопроса и нечто вроде тревоги во второй части Ивана Грозного, во второй серии, которая, как вы знаете, вышла не сразу, поскольку она подверглась репрессиям. Но дело не в политических претензиях к этой картине, а в том, к чему пришел Эйзенштейн. К фразе, очень важной, которую говорит Иван Грозный: «Един, но один». Вот это ощущение одиночества, о котором только что мы услышали в цитате из Джеймисона, вдруг открывается и Эйзенштейну, который, казалось, был абсолютно не тревожным человеком.
И другой, просто кардинально противоположный пример — другой великий кинематографист, Ингмар Бергман, который был просто проникнут этой тревогой настолько, что он не отдавал себе отчет, реальный мир, в котором он существует, или нереальный. Потому что та чума, которую мы видим в его знаменитой «Седьмой печати» — это зачумленный мир в принципе для него. И для него время потеряно настолько, что оно не только остановилась, но у часов нет стрелок. Это вот наш Иван Грозный, понявший, что он один, а это Бергман, «Земляничная поляна». Вот этот знаменитый кадр часов без стрелок. Это поразительное ощущение богооставленности (что Бергман так, собственно, и формулировал), которое выливается в невероятную тревогу, фактически адекватную, я думаю, мунковскому «Крику». Здесь можно если не знак равенства поставить, то, по крайней мере, очень сблизить эти творческие миры, несмотря на то, что Бергман — это художник, хочу это отметить особо, не конца XIX века, не последующий вот прямо-прямо заявлению Ницше. И Ницше тоже, как вы понимаете, не из воздуха это взял. Это атмосфера времени, это ощущение, это логика развития культуры. Он просто сказал то, что было у всех на слуху. То, что каким-то образом должно было быть сформулировано. То, что говорит, то, что переживает Бергман, — это через почти сто лет, это уже шестидесятые годы, даже семидесятые. Поэтому это совершенно другая дистанция, но острота переживание практически та же самая. Что говорит, мне кажется, о том, что потеря была очень существенной. Бог умер не безболезненно. Это была очень тяжелая травма для внутреннего мира человека, который способен с этим каким-то образом корреспондировать.
И третья фигура, которая для нас, особенно для нашего разговора, чрезвычайно важна, — это Жан-Люк Годар. По-разному его творчество интерпретируется, но для меня было некоторым откровением «На последнем дыхании» Годара. Когда-то, в какие-то там студенческие годы я тоже смотрел эту картину, естественно, но не могу сказать, что она осталась в памяти, так вот зафиксировалась и отпечаталась — ничего такого, к сожалению, не произошло. Когда я сейчас посмотрел, я вдруг увидел, как в этой картине сходятся просто ну не все — это громко, наверное, сказано, — но очень многие нити смысловые, которые определяют XX век и тот перелом, который во второй половине XX века произошел. Перелом — сразу назову все вещи своими именами, чтобы было понятно, о чем я говорю, — перелом от модернизма к постмодернизму, когда Крик перестал звучать.
Вот для того чтобы разобраться все-таки, что же произошло, давайте двигаться последовательно. Вот что такое «На последнем дыхании» Годара? В этой картине есть потрясающие, с моей точки зрения (вот, собственно, этот кадр как раз репрезентирует этот фрагмент фильма) диалог между героями, между Мишелем Пуаккаром, которого играет Бельмондо, и его возлюбленной Патрицией, которая потом его выдает. Кстати, тоже очень отметить, что в этой картине, как ни странно, если к ней присмотреться, очень много библейских мотивов. Потому что Пуаккар — абсолютная жертва, только жертва середины XX века, экзистенциальная жертва. Она предатель, она Иуда, она его сдает. В каком-то смысле она — функция предательства, она даже не понимает, почему она это делает, во многом, из какого-то такого вот — фантазия, что называется, пришла, — она сдает его полиции. Но вот этот диалог, самый важный, как мне кажется, и ключевой для понимания многих сложнейших вопросов, связанных с культурой XX века и с эволюцией этой культуры. Что же это за диалог? Патриция его спрашивает: «А ты читал “Шум и ярость” Фолкнера?» Он говорит: «Нет». — «Ну вот, я тебе прочту». И она читает фрагмент, в котором задается вопрос: «что ты выбираешь: печаль или небытие?» Вот это ключевой вопрос, на который он сразу не отвечает. А потом мы еще с вами поговорим о том, почему он сразу не отвечает. Это очень важно, особенно в сравнении с Тарантино, там есть нечто похожее, у него есть нечто похожее в фильме. Он сразу не отвечает, но потом отвечает: «Пожалуй, небытие». Я вам тоже процитирую, потому что это важно: «Печаль — это глупо. Я выбираю небытие. Это мне лучше. Печаль — это компромисс». Надо сказать, просто ради фактической правды нужно сказать, что Патриция путает: это не диалог из «Шума и ярости», а это из Фолкнера, из «Диких пальм» («А если забуду тебя, Иерусалим») — тоже, кстати, не случайно из псалмов название романов Фолкнера. Потому что это всё время как бы Ground существует в современной культуре, это всё время сквозит, эта потеря. Она никуда не уходит, она так или иначе пробивается — драмой, отсутствием драмы, но она всё время существует. И всё, что мы будем с вами говорить, так или иначе с этой дистанцией, более или менее промеренной, связано. В данном случае даже неважно, это «Шум и ярость» или «Дикие пальмы». Но просто именно в «Диких пальмах» герой говорит, по-английски это звучит grief or nothing, там герой выбирал печаль. Но печаль — это еще начало XX века, небытие — это уже экзистенциализм, это уже отчаяние, это уже тот самый знаменитый решающий выбор экзистенциальной модели, который не оставляет никаких других шансов, только небытие. И это отсутствие компромисса — это то, к чему пришел мир, потерявший общий смысл. Не надо печалиться, не надо грустить, не надо уже этого одиночества, давайте небытие, пусть будет ничто, как говорил Хайдеггер: «das niht». Это выбор Пуаккара, это выбор его героя годаровского в самом раннем, в первом его фильме, 1959-1960 год — по-разному его датируют, в зависимости от выхода на экраны. Но этот выбор чрезвычайно важен, потому что вопрос: как его интерпретировать? И как в связи с этим интерпретировать Годара? Потому что Годара, что называется, очень перетягивают на свою сторону и Тарантино, и Ларс фон Триер. Сейчас я попытаюсь вам рассказать как.
Что касается Тарантино, то мало того, что он посвятил свой самый знаменитый, первый фильм «Бешеные псы», который был, кстати, тоже на Канском фестивале, но тогда в программе «Особый взгляд», еще никто не понял, что произойдет. Я помню только, что были такие разговоры. Я «Бешеных псов» не видел перед «Pulp Fiction». Все говорили: «Это интересный режиссер, надо посмотреть, он “Бешеные псы” делал. Посмотрим, что он покажет на этот раз». Но «Бешеные псы» — это было преддверие, но оно, это преддверие, было посвящено Годару. Более того, компания, которая выпускала в том числе и «Pulp Fiction», называется «A Band Apart», а так назывался фильм Годара — «Bande à part», на русский это у нас переводится «Банда аутсайдеров». Почему так хотелось Годара привлечь на свою сторону? Также и Ларсу фон Триеру. Более того, если с Тарантино еще нет особых критических споров по поводу того, что «всё-таки Тарантино, конечно, это другое, это вот такой оммаж кинематографу, классику кинематографа Годару».
Что касается Триера, то здесь гораздо более кровавая, серьезная и в каком-то смысле опасная ситуация. Потому что очень трудно отделить Годара от Ларса фон Триера, от его знаменитой «Догмы 95», которая была обнародована не в 1995-м, а в 1998 году вместе с картиной «Идиоты», о которой мы еще будем говорить, и впервые было сказано о том, что всё, хватит, давайте делать, как Годар, как «новая волна». Пусть будет живой звук, пусть не будет жанровой зависимости, пусть будут натурные съемки, пусть будут актеры-типажи и так далее, так далее. Как бы возвращение к Годару. Там единственное, чего не было у Триера, вернее, что было, в отличие от Годара — это последний пункт его «Догмы» (он писал ее не один, но он был главным вдохновителем), это пункт о том, что имя режиссера не должно упоминаться в титрах.
Но вот здесь как раз и пролегает граница между Годаром и тем, что произошло после него. Или не после него, а, может быть, параллельно с ним, но — помимо него. И Годар к этому никоим образом не причастен. Дело в том, что то искусство, которое предъявляют Триер, Тарантино, Дэвид Линч, в каком-то смысле братья Коэны, — это искусство, исключающее авторства в том смысле, в каком авторство понимал Годар. Присутствие автора и его драматическое участие в том, что происходит на экране, внутренняя заинтересованность. Потому что то, что происходит на экране, — это и есть поиск смысла. Потому что любой серьезный автор —- это отношения со смыслом. И для Годара — как автора — всегда был важен поиск смысла невероятно. То, что его герой выбирал небытие, — это его ответ на поиск смысла, его попытка решить вопрос отсутствия общего смысла.
Что касается Триера и тех режиссеров, которых я сейчас перечислил, то это совершенно другое отношение к смыслу. И вопрос состоит в том, что Годар — это переходная фигура? И тогда нет никаких проблем, нет никаких споров. Вопрос только в стиле: он менялся просто, эволюционировал — и всё. Либо Годар — фигура пограничная, и тогда всё, что не связано с Годаром и все перетягивания Годара на свою сторону искусством совершенно другого типа несостоятельны. Потому что Годар — это автор, он очень много играл с интертекстуальностью, он занимался инверсиями, он менял стили. Он включал в одно произведение много разных стилей. Но кто видел его картины, я уже не говорю про этот фрагмент, мне кажется, что это своего рода «Крик» современный и вполне можно его сопоставить даже с Мунком. Это не человек, которому поиски смысла безразличны. И его последняя картина «Прощай, речь», которая в 2015 году была, кстати, в Каннах показана, на сегодняшний день она последняя — по времени последняя сделанная им картина, где он прощается вообще со всякой человеческой коммуникацией. Казалось бы, смысл исчез, что еще говорить? Прощай, речь. Но всё равно для него, как для автора и как для человека, ищущего смысл до последнего, даже после конца своего фильма, остается важным крик ребенка и лай собаки. Это те последние как бы островки коммуникации, которые еще возможны в том мире, где коммуникация невозможна. И в этом смысле Годар, конечно, остается ищущим автором, конечно же, остается совершенно другой эпохи человеком, другого представления о мире и другого вопрошания по отношению к миру. Он все равно ищет толк во всеобщей бестолочи. Может быть, не общий, но хоть какой-то толк, хоть какой-то не общий толк во всеобщей бестолочи.
Что касается того, что наступило после Годара, то об этом очень интересно и хорошо говорит то, что произошло в 1968 году в том же самом городе Канн, где Годар был невероятно одинок, ну почти что как Иван Грозный — «един, но один». Хотя он был в компании единомышленников, казалось бы, которых вы видите на экране. Это действительно цвет мирового кинематографа — Клод Лелуш, Годар, Трюффо, Луи Маль и Роман Полански. Они все, так или иначе, были причастны креволюции 1968 года, к закрытию Каннского фестиваля в 1968 году. Но почему Годар был одинок? Потому что он по природе своей революционер. Вот он если и отвечает… если его выбор и не решающий, как у экзистенциалистов, то в любом случае это решительный выбор. Он всегда был человеком необычайно решительного выбора, человеком революционным, радикальным. А заметьте, в этой фотографии, как ни странно, по мизансцене уже видно, что он один. Все сидят с довольно скучающими лицами, и он один что-то такое прокламирует, оставаясь еще революционером. И он был первым, кто повис — эта знаменитая история о том, как Годар повис на занавесе и потерял свои знаменитые темные очки, восставая против буржуазного мира, — чтобы не дать ему открыться, этому занавесу. Все остальные оставались в рамках той реальности, которая существовала, даже Трюффо. И надо сказать, что Годар, остающийся революционером, я думаю, до сегодняшнего дня — слава Богу, он жив, а Трюффо, к сожалению, умер. Но Трюффо постепенно, постепенно эволюционировал в сторону того, против чего чудовищно страстно возражал Годар как раз в 1968 году. Он говорил: «Как вам не стыдно говорить про ракурс, про движение камеры, когда рабочие там же? Там революция! Мы должны все прийти в движение!» Так вот он оставался на этом градусе существования.
Что касается Трюффо, то он постепенно эволюционировал как раз в сторону движения камеры, ракурсы и мизансцены. Если вы видели «Американскую ночь», это очень хорошее кино, но оно как раз такое вот, кинематографическое, кино. В нем нет никаких поисков, в нем нет вот этой внутренней неудовлетворенности, которая была свойственна Годару. И в этом смысле, конечно, Годар был невероятно одинок в ситуации, когда Роман Полански и Милош Форман, знающие, что такое революция, потому что они были представителями в прошлом своем биографическом социалистического лагеря и их революция вообще никак не увлекала. Полански прогуливался, в основном проводил время на пляже, по-моему, отеля «Мажестик» с погибшей трагически своей женой Шэрон Тейт. Лелуш был на яхте какой-то, стоящей в гавани Каннской Поэтому все, что происходило, было в каком-то смысле делом самого Годара. Он не мог вписаться в то, что происходило, потому что это было уже другое время, это была другая революция. И очень хорошо про нее сказал актер и продюсер, который впоследствии создавал двухнедельник режиссеров на Каннском фестивале, программу, альтернативную Большому конкурсу, то, против чего и возражали революционеры каннские в 1968 году — против буржуазности конкурса. А он создал программу, которая каким-то образом была альтернативой. Это Пьер-Анри Дело, который сказал очень просто: это был хеппенинг. То есть к революции это не имело отношения. И меня умиляют — прямо другого слова не найду — потрясающие лозунги, которые были провозглашены французской революцией. Но это было не в Канне, а в Париже, который, собственно, Канн и хотел поддержать. Годар сказал: «Как? Там в Париже студенты, а вы здесь сидите, пьете мятный коктейль со льдом?» Так назывался, кстати, фильм, который не хотел, чтобы был показан, Годар, повиснув на занавесе, кстати, вместе с Джеральдиной Чаплин, которая в этом фильме снималась, и с Карлосом Саурой, который его снимал. То есть это было такое единение, в общем-то.
Но что провозглашали студенты? Два потрясающих совершенно, с моей точки зрения, лозунга. Один из них гласил: «Пролетарии всех стран! Развлекайтесь!», и второй лозунг звучал так: «Под булыжниками мостовой — пляж». Тот самый пляж, собственно, на котором и загорал Роман Полански. Это была уже совершенно другая революция. Время тех революций, который задевали внутренний мир человека, прошло, и Годар был не на своей революции. Вот этот драматический раскосец, он очень важен и очень интересен, и очень существенен для того, что я хотел бы сказать вам в дальнейшем о том, что произошло.
Но у этого переходного момента, или великого перелома — вполне можно назвать и так, в каком-то смысле для культуры он был гораздо более великим, чем тот перелом, который обозначен был сталинской политикой в тридцатые годы, произошел именно в 1968 году. Так очень часто датируют начало постмодернизма. Есть еще другая датировка. Это 1972-й, по-моему, да, 1973 год, когда в Сент-Луисе были взорванны дома, построенные Минору Ямадзаки, архитектором американским. Это модернистские дома, которые как раз преследовали реализацию в архитектуре нового смысла, замещающего некий пропавший общий смысл, большой смысл. Такие дома строились и нашими архитекторами-конструктивистами. Это некий дом-общежитие, где всё есть, где всё очень хорошо, где всё устроено, где этот смысл появляется как бы. Но трагедия в том, что эти дома очень быстро превратились... жить в них мало кто хотел, и они очень быстро превратились в приют для бомжей. Для того чтобы как-то с ними справиться, администрация Сент-Луиса решила их взорвать. Ничего такого особенно символического в этом не было, но символическим было время и то, с чем расставались таким образом, что взорвалось. Взорвалась идеология тревоги, идеология отчаяния, идеология небытия, если говорить об экзистенциализме. Взорвалось всё то, что было искусством и культурой, взыскующей смысл. Но что родилось на обломках? Вот это самое важное. Потому что потеря общего смысла, которая воспринималась как драма, которая была тревожной, которая порождала одиночество, вдруг оказалась абсолютно не драматичной. Ну нет общего смысла — и хрен с ним, вот в прямом смысле. Потому что эта лексика соответствует в данном случае тому, что произошло. Тому искусству, которое возникло на этих обломках. Совершенно, кстати сказать, лояльно расположенное к этим обломкам и готовое с этими обломками играть до бесконечности.
Но почему иссяк век тревоги? Вот это тоже очень важный вопрос, в значительной степени связанный со Второй мировой войной. Казалось и экзистенциалистам во многом, и деятелям культуры послевоенным казалось, что после войны должно возникнуть что-то, нечто вроде второго дыхания. И вдруг оказалось, что война исчерпала возможности кричать. Потому что то, что произошло во время войны, уже невозможно было криком выразить. Это уже перешло предел крика. И вместо второго дыхания после войны открылось то самое последнее дыхание, о котором говорит Годар. И мало кто это знает и замечает, но «На последнем дыхании» есть прямая отсылка к войне. Пуаккар был участником Сопротивления, как это ни странно. И когда он водит Патрицию по Парижу, он говорит: «Вот здесь немцы построили стену, чтобы не могли убежать участники Сопротивления». То есть он об этом что-то такое знает и как-то с этим связан. Вот это не открывшееся второе дыхание и дыхание последнее исчерпало как бы возможности. И возник у культуры естественный… и тут тоже не надо говорить, что кучка злоумышленников что-то такое напридумывала, и вот мы попали в лапы постмодернизма, и что же нам теперь бедным делать. Это не так произошло. И культура естественным образом искала, что — кроме небытия — она может предложить человеку. И странным образом оказалось, что единственной точкой опоры может оказаться сама эта безопорность, само вот эта пребывание на краю. В каком-то смысле наш Владимир Высоцкий — это тоже отголоски экзистенциального сознания, да? «Чуть помедленнее, кони…». Но это еще совершенно не постмодернизм. «...Хоть немного еще постою на краю». Вот это «постою на краю» — это и есть то, что придумал постмодернизм как возможность существования. Стояние на краю. И тот нигилизм, который существовал в XIX веке — нигилизм тревожный, нигилизм драматический, — оказался во второй половине XX века нигилизмом беспечным. Я бы так его назвал. То есть это неверие, которое ничего не ищет, которое довольно самим собой. Главное — ничего не трогать, находиться среди тех обломков, которые возникли после взрыва, предположим, домов, построенных Минору Ямадзаки.
И здесь возникает вот какая поразительная, с моей точки зрения, вещь: вот эта усталость от криков и такого больного, как у нас часто говорили в советские времена, искусства порождает невероятную жизнедеятельность, невероятную активность. На краю возникает... вот эти взорванные дома... я, простите, иногда опаздываю сам за собой... да, вот это то, что я забыл сказать, а это очень важно. Дело в том, что постмодернизм вдруг понял естественным самым образом, что совершенно не обязательно действовать так, как действовали герои, предположим, советской классики, фильма «Арсенал» Довженко или (здесь нет этой картинки) «Коммунист» Райзмана, где Урбанский, играющий Губанова, как вы помните, тоже идет с открытой грудью, но не на штыки в данном случае, а на пули кулацкие. Совершенно необязательно это делать. Совершенно необязательно и спину подставлять под пули, как это делает Пуаккар В «На последнем дыхании» представить себе героя из «Арсенала» уже невозможно. Это человек убегающий, он убегает в небытие. Это не человек, который хочет настаивать на своем. Это не герой Эйзенштейна, герой массы. Это совершенно другой герой, невероятно одинокий. Вот эта улица Кампань-Премьер, где снималась картина, она очень выразительно показывает вот этот коридор, который уводит его в небытие. Не надо этого делать, давайте поиграем на краю. Зачем нам туда падать? Зачем нам это небытие? Давайте развлекаться. Давайте жить весело. И возникает то, что мы сегодня называем экстримом. Это происходит и в жизни, и в искусстве. Но в жизни, может быть, даже более наглядно, потому что невероятно выразительно. Первая картинка — это то, что придумали новозеландцы. Это называется банджи-джампинг — прыганье на резинках с мостов. Я имел счастье видеть, как это происходит. Не буду вам врать, у меня даже идеи повторить их опыт не возникло, потому что это по-настоящему страшно. А для некоторых это было как такая маленькая разминка воскресная или субботняя. Я помню, что подъехали к этому мосту в Новой Зеландии пять или шесть таких мощных «харлеев», на которых пожилые довольно мужчины со своими пожилыми подругами сидели. Они спешились, прыгнули и уехали. Это была просто такая зарядка на ближайший уик-энд. И скалолазание тоже очень выразительно. Вот эти невероятные риски, о которых мы узнали именно во второй половине XX века, мне кажется, невероятно точно иллюстрируют вот эту жизнь на краю, зависание на пороге бездны, небытия. Попытка поиграть с бездной. Попытка прыгнуть и в тоже время вернуться обратно. Вот эта невероятная игра, она, мне кажется, очень характерна для того, что возникло после взрыва условно обозначенных нами как рубеж домов Минору Ямадзаки. Это повсюду. Это повсеместно, где бы вы ни взяли.
Возьмите поп-музыку. Я только выделил два таких знаменитых мировых хита — группы Aerosmith «Livin on the Edge» знаменитая, и "Walking on the Edge" Scorpions. Вот это on the Edge —- на пороге, на краю бездны — это стало определенным знаком. Я помню, что, еще не зная, что постмодернизм уже наступил, я разговаривал с Борисом Гройсом как-то в Германии. Еще тогда мы мало ездили, но я встречался с ним в Германии. И я его спросил: «Что, Боря, что тут вообще происходит, что самое важное?». Он говорит: «Самое важное — это on the Edge». Я так вытянул шею — что это? «Это — “на краю”», — сказал он весело. Вот эта жизнь на краю, она, безусловно, стала самым важным. Причем жизнь невероятно активная и веселая.
Но что стало происходить дальше? Какие особенности у этой жизни? Во-первых, время, которое отведено для этой жизни. Для того, чтобы она чувствовала себя более-менее комфортно, пределы ей не должны быть поставлены. И это еще один мой диалог с достаточно известным в культуре современной человеком, с Петром Вайлем. Тоже он приезжал, еще никто тогда Вайля и Гениса особенно не знал, и мы их пригласили в журнал «Искусство кино». И тоже стали расспрашивать: что происходит? Это начало перестройки. А что в мире происходит? Он говорит: ну как, что происходит в мире — постмодернизм в мире. — Да? Постмодернизм? А что же это такое? Он начал рассказывать, объяснять, что такое постмодернизм. Я говорю: «Петя, ну хорошо, постмодернизм. А после постмодернизма что будет?» — сказал я лукаво. На что он мне сказала: «А ничего не будет. Постмодернизм — это навсегда». Сначала я подумал, что он шутит. И, в общем, в этом была действительно доля шутки. Но, с другой стороны, постмодернизм — это сознание, которое навсегда. Оно не может кончиться, оно не мыслит конечными категориями. Оно должно обязательно себя исчерпать в том объеме, в котором оно, собственно, и существует.
Что касается вот этой жизни на краю, то о ней очень хорошо сказал сам Триер, Ларс фон Триер. Он сказал, что если всё время жонглировать понятием нормы, играть дозволенным и недозволенным — то, чем занимается постмодернизм, оказавшись на краю, потому что все время хочется играть этой гранью, на этой грани, — то мир может полететь ко всем чертям. Вот это слова, которые были сказаны самим Ларсом фон Триером. И эта опасность действительно существует. Он ее прозрел, он ее почувствовал, как тонкий и действительно большой художник современный. Потому что помимо игры, в которую он включился, он еще понял ее опасности.
А ее опасность — вот это лицо клоуна. Тут недавно я был на телевидении, мне сказали: «Приходите, поговорим о страшных клоунах». Я не понял даже, о чем идет речь, а страшные клоуны действительно заполонили, оказывается, как я узнал, нажав всего лишь одну клавишу, заполонили не только экран, вообще сознание. Антониони, которая вышла в 1967 году, и «Париж, Техас» 1984 года — это уже это уже, собственно, времена постмодернизма в кино. А он наступал очень долго и тяжело. Но здесь видно, как меняется оптика. Если в «Фотоувеличении» тоже, кстати, с оптикой очень всё связано, посмотрите — вот этот фотограф Томас, который искал смысл, если кто-то помнит эту картину. Ему показалось, что там что-то произошло. А это и есть утерянный смысл. Он наводил всё время объектив, он смотрел через лупу, он пытался этот смысл найти. Если говорить о фильме «Париж, Техас», то здесь уже никто ничего не пытается найти. И Трэвис, который возвращается в мир, чтобы как-то обустроить дела своей семьи и вернуться потом обратно в свое какое-то изгойство, какое-то небытие — но жизнеутверждающее небытие. Это не небытие Пуаккара, потому что там можно жить, он оттуда пришел и он туда ушел. Но это уже не поиск смысла, это невозможность смысла, и некоторая холодность по отношению к этому героя. То есть это уже драматически не переживается так, как это переживал фотограф Томас. Вот этот разговор через стекло, который происходит между героями, между мужем и женой, расставшимися по непонятной причине, что тоже очень важно, это не травма, это не драма уже. Это данность, это так может быть.
И очень важный фильм, конечно, для понимания того, что произошло, он так и называется — я назвал нигилизм беспечным, а фильм, о котором я говорю, назывался «Беспечный ездок» и вышел он, что очень важно в 1969 году, сразу после революции 1968 года и обозначил параметры этой беспечности. Если вы помните, там три героя, которые по-разному очень играют в этой картине. Картина называется ведь, заметьте, не «Беспечные ездоки», а «Беспечный ездок». Так кто же этот беспечный ездок? Вот здесь, к сожалению, втроем мне не удалось их взять, но главные зачинщики этого путешествия — это «Капитан Америка», которого играет Питер Фонда, и Билли — такой прагматичный более-менее герой, которого играет Деннис Хоппер, режиссер этого фильма. Картина действительно выдающаяся тоже по тем акцентам, по тем смыслам, которые она собрала в культуре и в кинематографе с разных сторон, она тоже в каком-то смысле переходная. Так вот эти герои — «Капитан Америка» и Билли — они еще герои другого времени, они ищут не то чтобы небытия, но они уже беспечны, они ищут развлечений конечно же, они едут на карнавал. И тут вот маленькая сноска, очень важная. Что такое карнавал для постмодерна? Это то, что не должно кончиться. Хотя карнавал, как вы знаете, или масленица – это то, что предшествует посту. Вот поста, поиска смысла и обращения к себе для постмодерна уже не существует, всё кончается карнавалом, который должен длиться по возможности вечно. Эти герои до карнавала доезжают, но им уже не до карнавала, потому что главный герой — и, собственно, беспечный ездок, которого играет Джек Николсон, — адвокат Джордж, которого они встречают в тюрьме, он пытается их защищать, а на самом деле становится одним из них. Вот посмотрите на него, здесь потрясающе сделано то, что называется грим-костюм. В белом костюме он сидит на заднем сиденье в каком-то дурацком бейсбольном шлеме. Если этим героям еще пафос свойственен на этих прекрасных рогатых мотоциклах, они чего-то хотят, они что-то могут. «Капитан Америка» — это просто бесконечный американский флаг, и «Капитан Америка» — в этом нет иронии, для него это что-то значит — настоящую Америку, ту, которую мы потеряли, которую они потеряли. А для Джека всё уже безразлично. И есть совершенно гениальный разговор в этой картине, который происходит у костра. Потом вот это мизансцена у костра, она будет повторяться у Джармуша в «Мертвеце», это очень важная мизансцена вообще для кинематографа. В этой сцене у костра Билли спит, потому что ему всё до фени вообще. А «Капитан Америка», поскольку он идеологически мыслящий человек, и Джек говорят о том, что вообще сегодня важно. Но для Джека ничего не важно, и он начинает то, что сегодня называется «стебаться» и «троллить» нашего «Капитана Америку». Он говорит ему о том, что, говорят, что инопланетяне прилетели и они— внимание! — пытаются облучать Америку, чтобы побороться с монетарной политикой и с институтом лидерства. То есть две самые важные для Америки, для американской идеологии позиции — институт лидерства и монетарная политика, монетарная философия, — вот это как раз то, что он подвергает отрицанию, причем легко, беспечно — для него в этом нет ничего такого. Это герой совершенно другой уже формации. Вот он и есть тот «беспечный ездок», настоящий из них трех, который бросает или протягивает руку постмодерну, конечно же. И он погибает первым в этой картине от рук этих злобных «реднеков» американских, потому что он преждевременный. Если «Капитан Америка» и Билли, в общем-то, в своем времени, 1969 год, то Джек, конечно же, герой преждевременный.
И другая линия анализа, тоже очень важная и интересная. От Дэвида Линча — это 1990 год, каннская «Золотая пальма», это «Криминальное чтиво» — 1994 год, тоже «Золотая Каннская пальма», и Ларс фон Триер, который ничего не получил за фильм «Идиоты» и за свою «Догму», за которую он, собственно, и не мог получить, потому что призы даются фильмам, — в 1998 году. Но Триер получил другую премию, совершенно неожиданную. Президент фестиваля, арт-директор, а потом президент фестиваля Жиль Жакоб впервые — это такой, если кто-то видел его фотографии, чрезвычайно аристократичный, всегда в смокинге с бабочкой, человек, который встречал гостей на вершине каннской лестницы красной. Все поднимались, к нему, раскланивались. Он необычайно чинный, он, собственно, создатель того Каннского фестиваля, который сегодня мы знаем, который стал великим Каннским фестивалем во многом. Так вот, этот величественный Жакоб, который, собственно, и воплощал каннский порядок, уклад, который Каннский фестиваль пытается сохранять, он спустился к Ларсу фон Триеру, который, как абсолютно беспечный нигилист, приехал на автобусе с надписью «Идиоты» и вылез из него, и он протянул руку внизу лестницы. Но это было такое неожиданное маневрирование Жакоба по отношению с той новой культурой, которая возникла и которая, не получив «Золотой пальмы», на самом деле победила. Потому что возникновение, появление «Диких сердцем» — это такое продолжение, развитие того, что в «Беспечном ездоке» есть. Потому что там звучит эта знаменитая песня группы Steppenwolf «Born to Be Wild. И «Дикие сердцем» — это тоже «рождённые дикими». Такой перевод тоже этого названия существует – «Wild at heart».
И когда мы перейдем к Тарантино, то один из самых знаменитых кадров, когда Траволта, Винсент Вега, которого он играет, вонзает шприц, передозированной Мие Уоллес в сердце — это тоже некая прививка дикости, это прививка совершенно другого типа сознания, другого миропонимания и другого отношения к миру, и другого отношения к смыслу, который потерян. И для Дэвида Линча, потому что для него драмы не существует. Но он иллюзионист. Он по-своему тоже элегантен, он по-своему еще не так раскован, как Квентин Тарантино — дитя видеотек и таких дешевых просмотров, потому что он долго билетером работал в кинотеатре, совершенно еще не одичавший окончательно. Тарантино — это уже человек, художник, который охотится за смыслами. Если Линч с ними играет, есть знаменитая сцена автокатастрофы, где в шоке пребывающая девушка блуждает среди обломков и трупов, оставшихся после этой катастрофы. И она говорит, единственное, что она говорит: «Дайте мне помаду». А у нее все губы в крови. И мы понимаем, что помада ей не нужна, с одной стороны. Потом, с другой стороны, мы понимаем, что нам абсолютно все равно, умрет она или нет. Нам интересно, что у нее красные губы, а она просит помаду. И это дизайнерский ход. И драмы в этом никакой нет. И никакого смысла, помимо этого дизайна, потрясающего дизайна, действительно, на грани фола, на грани бездны, в этом ничего другого нет. И то же самое у Тарантино происходит, потому что...но он это делает гораздо более откровенно, гораздо более непосредственно. И он начинает не играть со смыслами, он начинает охотится за смыслами. То, что происходит в «Pulp Fiction», — это настоящая охота за смыслами, при этом прежде всего конечно, смыслами нравственными, что и вызвало тот шок, о котором я сказал в начале. И во вторую очередь — за смыслами жанровыми, с которыми он еще немножко играет. Если Линч играет еще все-таки с нравственными какими-то посылами, с нашими чувствами, то Тарантино их презирает. А с жанрами он еще играет. И это тоже проявление постмодерна, вот этой жизни на краю, обустройство этой жизни.
И что касается Триера, то обустройство этой жизни, как мне кажется, было окончательным, потому что произошло... Есть один только кадр, очень важный для меня, который выделен самим Триером, не знаю почему. Я бы с удовольствием его спросил, будь у меня хоть когда-нибудь такая возможность, что произошло? Если вы посмотрите фильм «Идиоты», там есть кадр, когда идиоты выезжают на пленэр. Им надо вырваться, а Триеру очень важно было эту вот общину идиотов, людей, которые играют в идиотов, вывести из их узкого мирка в какой-то большой мир. И он вывозит их в парк, не знаю, в какой-то пригород, где они — внимание! — на лыжах летом катаются с растаявшей ледяной горки. То есть абсолютные идиоты действительно. И что происходит вот с этими идиотами, или, вернее, что происходит с той реальностью, которая их окружает, с тем миром? Все мы знаем с детства, наверное, когда посмотришь наверх, на небо, окруженное деревьями, вы видите окно как бы, кронами деревьев созданное. Можно назвать это окно Бога, как угодно. Но это некое ваше обращение вверх, ваше обращение к небу. Так вот это окно у Триера, этот кусок снят просто другой камерой, настолько он важен был для Триера. Оно закрыто ветками, абсолютно закрыто. Что касается фильма 1957 года «Летят журавли», в котором снимался Алексей Баталов, все вы его знаете, там тоже есть вошедшие во все хрестоматии кадры: когда Борис погибает, он смотрит наверх и он видит это окно — оно открыто, оно окружено березами, и он обращается, это его последнее обращение к небу, небо не закрыто. У Триера оно оказалась уже окончательно — самим режиссером или его интуицией — закрытым.
Часть II
Я, Лев Карахан, продюсер, кинокритик, занимаюсь вопросами современного зарубежного и отечественного кинематографа. Наша лекция называется: «Мешает ли Тарантино вере в Бога», первая часть, которую вы уже прослушали, называется «Как потерялся смысл», вторая часть называется «Стратегия бессмыслия. Как поддерживать бессмыслие», или как поддерживает кинематограф отсутствие интереса к смыслу, как он играет со смыслами.
И первое, о чем нужно сказать здесь, это, конечно, тот самый Ларс фон Триер и про его фильм «Идиоты», на котором мы закончили нашу предыдущую часть. Я бы назвал ту стратегию, о которой я сейчас хочу рассказать, стратегией дистанцирования смысла, дистанцирования и попыток его вывести из круга необходимого, вот то, что Триеру потрясающе, в общем-то, удается, хотя не всегда. Сейчас я об этом скажу. В «Идиотах», я думаю, ему это удалось вполне, потому что это моделирующая система, моделирующий фильм, в котором была создана определенная модель существования без смысла, в прямом, впрямую, как бы, вот эта община идиотов — это люди, существующие без смысла или наперекор смыслу. И это им прекрасно удается, потому что они доводят идиотизм до некоей крайней точки. Вопрос самый важный в том, а что такое крайняя точка идиотизма, и Триер в принципе эту крайнюю точку обозначил, как она обозначена на этой картине, и она, эта точка, определяется простым и ясным словом «порно». Вот это то, где смысл уже абсолютно теряет всякую возможность присутствия, я бы сказал, потому что речь не идет о подглядывании за чем-то запретным, а это порно как тип поведения, и Триер, надо сказать, с некоторой художественной авторской самоотверженностью здесь, если он не присутствует как автор в том, что он показывает, то здесь как автор он, верней, сливается со своими героями, как раз, может быть, даже и следует рассказать, сказать о том, что он здесь как автор растворяется в своих героях. Он однажды встретил, как он пишет, своих героев голышом и предложил им тоже всем раздеться. Надо сказать, что там есть просто откровенно порнографические кадры в «Идиотах»… Я забыл, кстати, сказать, что наша лекция маркирована 16+, чтобы просто дети на всякий случай вышли, поэтому здесь я про это хотел бы сказать достаточно откровенно, поскольку это очень важно, нужно довести до некоей крайней точки. И эта крайняя точка — порнография, которая вводит вас в состояние шока. Вот тот самый шок, который демонстрировал Тарантино, только дошедший уже до какой-то высшей стадии. И порно в этом смысле и есть та самая высшая стадия, которую ухватил, как возможность борьбы со смыслом, Ларс фон Триер.
Но что происходит с ним в дальнейшем? Оказывается, что выдерживать эту дистанцию достаточно тяжело для большого художника, такого, каким Ларс фон Триер, конечно же, является. И идиотом быть очень трудно долго. И он в каком-то смысле сорвался, сорвался в картине «Меланхолия», которую все вы, наверное, знаете и видели, она вышла в одиннадцатом году, была, в общем, сенсацией Каннского фестиваля, но сенсацией определенного толка. Это очень хорошая картина, возвращающаяся, конечно же, к смыслам, к попытке ухватить этот смысл как раз на пороге небытия. Там то, что происходит в этой картине, я вам просто в двух словах напомню, Земля должна попасть в космическую катастрофу и столкнуться с более крупной планетой Меланхолия, и исчезнуть. Это сделано потрясающе с точки зрения просто визуального образа в финале, она действительно Земля как теннисный шарик проваливается в эту гигантскую планету — и все, это настоящее небытие. На пороге этого небытия, когда все, казалось бы, уже бессмысленно, героиня строит нечто вроде укрытия для детей. Казалось бы, это не нужно, но это попытка хоть как-то осмыслить эту реальность, и, надо сказать, что Триер сам испугался этого возвращения смысла. То, что он творил на этом фестивале, не поддается описанию, но он доигрался до того, что его с фестиваля удалили, запретили ему там появляться, потому что журналисты спровоцировали его.
Тут надо сказать, что не очень хорошо повели себя журналисты, спровоцировали его на достаточно резкие и одиозные высказывания, потому что он там говорил о том, как его интересует архитектура Шпеера, главного гитлеровского фашистского архитектора, который, кстати, был — и тут тоже, наверное, правильные слова — архитектором Нюрнбергских парадов, потому что они были потрясающе построены, и журналист его спрашивает: «Что же, что же, что же вам нравится? И вот вы понимаете Гитлера, что он чувствовал, когда сидел в бункере в последние дни Третьего рейха, так может вы как-то сочувствуете?» И, поскольку его все время к этому подводили, он сказал: «Да, я нацист». И, когда он это сказал, то разразился настоящий скандал, ему запретили появляться на Круазет, но он добился того, чего он хотел на самом деле с самого начала, потому что на всех пресс-конференциях он вел себя чрезвычайно агрессивно, показывал какие-то то ли фашистские знаки, то ли знаки СС, в общем, он пытался отыграть тот смысл, который вдруг его настиг, он хотел его обессмыслить хотя бы своими последующими действиями, и, в общем, в каком-то смысле он этого добился. Но надо сказать, что он это почувствовал с самого начала, и эта картина, которую он не любит и которую он назвал «крим он крим вуменс филм», кремовый крем женский фильм, вот именно из-за того, что он вдруг пошел против того хода, которым идет Триер, он как бы сам себе стал противоречить в этой картине неожиданно, и это его невероятно разозлило. То, что он делает сейчас, — это в каком-то смысле, начиная с «Нимфоманки», месть самому себе, я иначе не могу это понять, месть за то, что он поддался этому смыслу, потому что «Нимфоманка» — это, конечно же, шестичасовое разрушение смысла именно с помощью того самого порно, которое было открыто как крайний рубеж бессмыслия в «Идиотах».
А то, что он сделает сейчас, я думаю, тоже будет достаточно шоковым, хотя уже после «Pulp fiction» от шока «Pulp fiction» ничего шокировать нас не может, мы уже знаем, что произойдет, мы понимаем тип этой игры. Картина будет называться «Дом, который построил Джек», и мне просто, поскольку я работал вместе с продюсером Триера Марьяной Слот, она мне показала аннотацию, в которой написано, что эта картина посвящена и рассказывает о вдохновенном сериальном убийце, сериальном убийце-творце, и что такое убийство как творчество, то есть это еще один шаг в сторону дистанцирования смысла, но уже гипертрофированного дистанцирования, потому что обычное его не устраивает, потому что он боится проколоться еще раз. Вот такое ощущение создается от того, как эволюционирует Ларс фон Триер, но он поскольку художник чрезвычайно тонкий и мудрый по-своему, он нашел способы и скрытого нарушения смысловых структур. В самых знаменитых его фильмах вы всегда найдете некий сбой смысла, некоторую такую вот точку, в которой вдруг вы выпадаете из логики и выпадаете из развития смысловых структур.
Возьмите хотя бы «Догвилль», вот эта знаменитая сцена, когда Грейс, которую играет Николь Кидман, от такой нежной человеколюбивой жертвы, которая хочет служить людям, превращается в ангела-истребителя, мы не знаем, почему это произошло, этот сдвиг происходит за счет сбоя смыслового, который Триер подкладывает как мину замедленного действия практически во всех своих картинах. Также «Танцующая в темноте» с Сельмой, которая вдруг становится убийцей совершенно неожиданно для нас, это происходит тоже за счет сбоя смысла, который внутри как бы незаметен для нас. Тоже самое в «Нимфоманке», когда Селигман, один из главных героев, который выслушивает признание нимфоманки, которую играет Генсбур Шарлотта, вдруг он становится из такого сочувствующего, заботливого человека, который хочет ей помочь, агрессивным сексуальным маньяком, который на нее нападает. Вот этот сбой тоже как бы спрятан внутри, но это игра со смыслом, попытка его дистанцировать, которая Триером изящно, я бы сказал, очень тонко и художественно скрыта, вы никогда не поймаете его за руку, это надо очень внимательно смотреть его картины и понимать, присматриваться особым образом к этой поэтике, как она устроена. Он один из самых безусловно сложных и интересных художников постмодерна, потому что он через себя пропускает это. Это не человек, который с некоторой дистанции дистанцирует смысл, но он не дистанцирует то, что происходит в его картинах, он внутри этого, он этим живет, у него трясутся руки на пресс-конференциях, он действительно в очень плохом психическом состоянии, при этом он остается выдающимся абсолютно художником. Вот это определенная плата за тот путь, которым он идет, и в этом смысле это честно, но это ужасно тяжело для него наверняка, и в каком-то смысле для его зрителей и для его поклонников, для поклонников его таланта, потому что надо идти вместе с ним и это не просто.
Другой способ борьбы со смыслами и одна из таких величайших стратегий бессмыслия, которую придумал Тарантино, — это смешение смыслов. Ну, собственно, ничего нового в этом нет, это одна из таких понятных техник, ясных техник постмодерна, смешение, но он из этого сделал поэтику, я бы ее назвал поэтика пустословия или поэтика бла-бла-бла, вот этих замечательных потрясающих разговоров ни о чем, больше всего, конечно, о пище, потому что постмодерн вообще любит иметь дело с удовольствиями, поскольку он развлекается на краю по-настоящему, это должен быть либо секс, либо еда, что-то такое очень веселое, духоподъемное и заразительное.
Еда особенно в «Криминальном чтиве» выглядит выразительно, и вы помните замечательный разговор, когда Джулс, гангстеры Джулс и Винсент Вега говорят о бургерах, что есть четвертьфунтовые французские роял-бургеры, что есть классический биг-мак, что есть биг-кахуна-бургер и бургер, а биг-кахуна бургер — это краеугольный камень здорового питания, еще они говорят о сериальных пилотах, о том, как один из бандитов массировал стопу Мии Уоллес, и все это на самом деле смешано с тем, что хочет сделать в этой истории Джулс, главный герой, — покаяться, потому что мы воспринимаем в общем контексте его покаяние и обращение книги пророка Иезекииля к словам о трудном пути праведника так же приблизительно, как разговор о биг-кахуна-бургерах, тем более, что это краеугольный камень здорового питания и краеугольный камень, который заложен в книге пророка Иезекииля, для нас ничем не отличается в эстетике бла-бла-бла от краеугольного камня, которым является бургер.
Я сейчас уже начинаю попадать немножко в эту эстетику и начинаю говорить этим языком, но именно за это, кстати сказать, и справедливо, я думаю, потому что это действительно талантливо, за это он получил Оскара как лучший сценарист, за «Pulp fiction». В этом смысле киноакадемия Американская проявила некую такую высокую прозорливость и дала ему именно за лучший сценарий Оскара в 1994 или 95-м году Оскар был. И что интересно, вот как эта поэтика бла-бла-бла, я вам обещал вернуться к разговору Пуаккара с Патрисией. В этом разговоре есть очень любопытный нюанс, когда Патрисия спрашивает Пуаккара, что для него лучше — грусть или небытие, он не замолкает, там не пауза повисает, а он говорит: «У тебя очень красивые пальцы ног». Казалось бы, вообще враскосец идущее с тем, о чем она его спрашивает, но он, ему нужна пауза, для него это слишком серьезный вопрос, и это не уход от смысла, а некоторый отвлекающий маневр, который позволяет ему через буквально какие-то несколько секунд дать тот реальный ответ, который определяет его судьбу, он действительно выбирает небытие, он не шутит. Он знает, что она его предает, и он идет на смерть в принципе сознательно, это какое-то своего рода онтологическое самопожертвование в данном случае, хотя он и повернулся спиной к своим убийцам, а не рвет тельняшку на груди. Это его тип героизма, который он выбирает. А что происходит, здесь просто невозможно не вспомнить стопу Мии Уоллес, которую отмассировал один из гангстеров и за это потом жестоко поплатился, потому что здесь совершенно другая задача. Здесь задача снизить смысл, не подобраться к нему, не показать, что без или не показать, что без смысла очень тяжело, что лучше небытие, чем грусть по смыслу, а абсолютно равнодушие к смыслу. И между Джулсом и Винсентом Вегой в кафе происходит замечательный, один из самых любимых моих разговоров, потому что, когда Джуллс начинает по просьбе Винсента Веги рассказывать, что он собирается стать праведником, что он пойдет туда, куда поведет его Бог и так далее, так далее, так далее, Винсент Вега сникает и говорит: «Ты пугаешь меня своими ответами». А он говорит: «Тогда не задавай мне страшные вопросы». Но это в каком-то смысле эвфемизм тех самых проклятых вопросов Достоевского, потому что если ими задаешься, то надо получать серьезные ответы. Тарантино почти на глазах у нас от этих серьезных ответов уходит, он смешивает одно с другим, и он не дает ни одному из вариантов ответа стать краеугольным камнем, в том числе и ответ биг-кахуна-бургер, это все смешано в одном, эти ряды не выделяются один над другим ничто не превалирует.
И в этом смысле мне показались интересными… один перифраз я нашел в Интернете, замечательный с моей точки зрения перифраз знаменитой лютеровской фразы «На том стою, не могу иначе», а в Интернете написано «На том стою, могу иначе». Вот это чистая позиция постмодерниста настоящего, когда главного смысла не существует. Потом я как-то наткнулся на знаменитую фразу пастернаковскую «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Постмодернист сказал бы в этом случае «Во всем мне хочется уйти от самой сути». И вот эти два таких mot, или как теперь это — хэштеги называются, да? Они очень работают на то, чтобы понять принцип вот этой игры на краю, что дает ей энергию. Вот уход от смысла как раз и есть та энергия, заразительная очень энергия, игровая энергия, которая дает возможность существовать в этой очень тяжелой позиции, потому что ты можешь — чуть-чуть камушки покатились вниз — ты можешь оступиться, поэтому это всегда очень опасно, как мне кажется, но в любом случае ты должен держаться вот в той позиции, которая уберегает тебя от экзистенциального, решающего выбора, от выбора в ту сторону, в сторону бездны, в сторону ничто, сторону небытия, nothing, да, как сказал Фолкнер, потому что иначе ты не сможешь от этого уберечься, ты должен отказаться от выбора, это главный, собственно, способ не свалиться в бездну. Если ты отказываешься от выбора, если ты уходишь от смыслов, связанных с выбором, вернее, откажешься от выбора между смыслами и от поисков общего смысла, то тогда ты в каком-то смысле застрахован.
И если брать историю вопроса, то, скажем, гамлетовская свобода выбора вела к тому, что он отказывался от небытия, да, и выбирал борьбу, это новое время, да, самое начало. Если говорить об экзистенциальной модели, то это выбор свободы, отказ от борьбы, отказ от существования в миру и выход за его пределы — рванул за флажки, опять можно вернуться к Высоцкому: идет охота на волков. Волки в экзистенциальной модели рвут за флажки. У Высоцкого не сказано о том, что там, за флажками. А экзистенциальная модель ясно дает понять, что за флажками бездна, там ничего нет, ты выбираешь небытие, и это выбор свободы, настоящей, абсолютной свободы, свобода небытия, и, наконец, свобода от выбора, которую предложил постмодерн, потрясающая совершенно модель, которая позволяет уклониться от дальнейшего движения по вот этой нисходящей траектории. Никто же не возвращается, на этой магистрали никто не возвращается назад, движение культуры идет только вперед, а вперед — либо ты на краю, либо ты за его краем.
Постмодернизм нашел потрясающую систему существования на краю, отказавшись от выбора, и в этом смысле мне очень нравится еще то, как он оперирует с такой категорией, как… сейчас мы с вами посмотрим этот разговор Джулса, а вот это вот важная категория, о которой важно сказать в связи с постмодерном, - макгаффин. Вообще макгаффин, Хичкок сказал, что McGuffin is nothing, макгаффин — это ничто. Появился он из какого-то дурацкого шотландского анекдота про то, что что-то там лежит на полке, это кто там лежит? — Это макгаффин. Потом оказывается, там вообще ничего нет на полке, и используется этот макгаффин в основном для того, чтобы усилить, все что-то такое ищут в приключенческом жанре, да, там, Святой Грааль, Ковчег Завета, что-то еще, — все ищут, а что это такое, никто не знает — вот это макгаффин. Но для постмодерна макгаффин — это в каком-то смысле краеугольный камень его здорового питания, потому что постмодерну важно показать, что в середине, в существе — пустота, и этот макгаффин есть безусловно в «Pulp fiction» как в каноническом произведении постмодерна. Это знаменитый чемоданчик, в котором никто не знает что. Когда он открывается, и мы ждем, что мы увидим, что там, но мы не видим, что там, мы видим только сияние, и, по-моему, кто-то в Интернете, там, Гоблин, комментируя «Pulp fiction», там много всяких разных комментариев, говорит: ой, там, наверное, была душа Марселласа Уоллеса, но конечно, конечно, что-то такое, душа, что-то самое главное, но этого главного нет, поэтому можно отказаться от выбора. Когда нет главного, от выбора отказаться, свобода выбора очень легко дается. И это не только у Тарантино, конечно же. Вот я вам показываю сейчас кадр из «Бартона Финка» Коэнов, там знаменитая посылка, в которой мы предполагаем, что там голова возлюбленной «Бартона Финка», но мы так до конца и не узнаем, что там, вот так эта посылочка макгаффином и останется. Есть знаменитый сундучок, про который все всех, друг друга спрашивали, «Возвращение» Звягинцева тоже отголоски той же самой психологии художественной.
Есть свой чемоданчик и в «Подземке» Люка Бессона, тоже в картине начального постмодернизма, очень интересно, я скажу два слова о ней тоже, это борьба с основным смыслом, с краеугольным смыслом, попытка его аннигилировать, превратить в макгаффин, в то, чего нет, is nothing. Вот это как раз замечательно сделано в первую очередь, конечно, в «Pulp fiction», но и в других картинах, которые принадлежат постмодернистскому пониманию мира.
И важно еще сказать о том, что вообще происходит со словом, которое является для нас носителем смысла, в том числе и общего смысла. Как мы все знаем: «В начале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было у Бога», что происходит со словом в чисто практическом смысле. Давайте возьмем Библию, изданную Гутенбергом. Чисто типографский момент: она была издана на пергаменте, сделанном из кожи или, вернее, напечатана, либо на итальянской толстой бумаге, которая очень хорошо держит краску типографскую. Более того, в типографскую краску вот эти фолианты знаменитые одна вторая печатного листа, формат, в котором была Библия Гутенберга издана, в краску добавлялся свинец, поэтому эти буквы и слова — они сияют до сих пор. Я, к сожалению, не видел, но говорят, что это производит впечатление, они как бы играют эти слова, и это невероятное типографское впечатление. Что предлагает вместо этого библия Тарантино, «Pulp fiction» — название говорит само за себя. Он, конечно, выдающийся человек, потому что там сходится все, это мир, который им создан совершенно на новых основаниях, он использует дешевую целлюлозу. Pulp fiction — это дешевая целлюлоза, которая не держит типографскую краску, которая очень быстро стирается, плохо читается, и это тип отношения к слову совершенно другой. То есть Тарантино создал перевернутую модель, чем, говорю я, совершенно не шутя, что это библия, настоящая библия постмодерна «Pulp fiction», что он перевернул все, все компоненты, связанные со смыслом. Это комплексная работа гигантская, естественно, он это не планировал, но это талант или даже гений человека, который смог это сделать и предъявил совершенно другое качество на уровне искусства, на уровне произведения искусства, вот что он сделал. Это, конечно, удивительно.
Вот Библия Гутенберга, как она выглядит в подлиннике. М, надо сказать, что еще в «Поваре, воре, его жене и ее любовнике» вот эта борьба с фолиантной культурой воспринималась как драма, потому что главный герой, вор Альберт — и он был действительно вором, он осознавал это, он даже гордился в каком-то смысле, — он заставлял есть книги своего антагониста Майкла. Это была драматическая ситуация, она доходила до абсурда, потому что потом жена этого Альберта вора, Джорджина, и любовница книжника Майкла заставляла есть труп Майкла. Альберт вынужден был это делать, но это для него было непросто, потому что когда постмодернизм разыгрался, это же стало обычным делом, ничего такого в этом нет, съесть труп, подумаешь, это же весело, на краю все возможно, понимаете?
И вот эта эволюция, это нарастание и повышение градуса — это следующий важнейший, как мне кажется, момент, связанный со стратегиями бессмыслия, это поддержание режима бессмыслия. А что такое поддержание режима бессмыслия? Для этого надо все время наращивать обороты, потому что иначе машина встанет, иначе ты можешь действительно обвалиться, ты должен пребывать в этом состоянии, и оно должно все время, все время, все время подпитываться чем-то новым, иначе рассеется этот туман сладкий, в котором человек пребывает на самом деле на краю, но думает, что он полон жизни, что все очень весело и хорошо. Для этого надо все время, я бы его назвал не очень подходящими словами не очень подходящего к этой истории автора Сергея Михалкова «праздник непослушания». Вот этот праздник непослушания должен быть все время еще более и более непослушным, эти экзистенциальные каникулы, которые объявил постмодерн, они должны быть еще более веселыми и еще более в каком-то смысле хулиганистыми и безобразными, потому что — как это можно сделать? Главное, видимо, все-таки, вот почему вор возникает на заре постмодерна, вообще, вор, который еще осознает себя вором, потому что главный источник хулиганства, и дети как бы, собственно, когда они… вот что такое праздник непослушания, что такое хулиганство — это некое преступление по отношению к норме, и что постмодерну в этом смысле важно — декриминализовать криминал, криминалу дать простор для самовыражения. Для того чтобы это произошло, надо нас уговорить, что, ну, например, засунуть себе или товарищу в живот самурайский меч — это забавно, или снести полчерепа, как это происходит в «Pulp fiction», так, что вся машина забрызгана мозгами, — это тоже весело. Мы должны как-то в это поверить, что это не криминал, то есть что это криминал, но что это какой-то веселый и забавный, смешной криминал, и… или отстрелить гениталии из дробовика, там тоже есть такой момент, то есть много-много всего становится позволено, чем больше, тем лучше. И это работает на то, что Джеймисон, о котором мы с вами уже говорили, один из основоположников теории постмодерна и аналитиков постмодерна, называет «смена эмоционального тона», вот то, что было свойственно эпохе тревоги, состояние аффекта, состояние подавленности, состояние, которое заставляет вас погружаться в себя и переживать если и не физически, то морально состояние крика, меняется на состояние эйфории.
Вот мой коллега и собеседник по нашим Каннским диалогам Андрей Плахов назвал очень точно, с моей точки зрения, иначе не назовешь ретроспективы современного кино, — эйфорией. Он проводит постоянно эти ретроспективы, потому что, действительно, совершенно другое состояние и совершенно новый эмоциональный тон возникает на этом мировоззренческом основании: вы все время переживаете состояние удовольствия, и драма для вас — уже не драма. Вот иногда это странно слышать, но постепенно к этому привыкаешь, не только то, что самурайский меч загнали или полбашки снесли — это прикол, но любая драма, даже то, что происходит с Гамлетом, молодые люди могут сказать: «О, прикольно! Он тень отца встретил — прикольно!»
Вот слово «прикольно», оно становится рабочим, и категориально это очень важно для того, чтобы понять, что происходит. В системе постмодернистского мировоззрения, в системе постмодернистской эстетики прикол становится заменой драмы. Драма уходит, состояние тревоги уходит, воцаряется состояние эйфории и ощущение того, что все прикольно, потому что тогда вы не ощущаете тревоги, тогда вы не видите бездны, над которой вы висите, собственно, или на краю которой вы находитесь, тогда вам не страшно, тогда прыгнуть на банджи-джампинг, совершить прыжок с моста на резинках тоже прикольно, забавно, понимаете? Хотя это невероятный риск, и были случаи, когда люди обрывались, естественно, никто не говорит об этом, все говорят о том, как это смешно, как это забавно, что это некая внутренняя зарядка. То есть это становится внутренней зарядкой.
Постепенно сущность теряет и сам человек, и тут начинается игра с человеком как неодушевленным существом. Тогда его можно препарировать. А это в свое время начал Дэвид Линч, и все, кто тогда жил, помнят, какое впечатление производило отрезанное ухо, лежащее на лужайке, в фильме «Голубой бархат». Это так, заря постмодернизма. Потом уже в фильме «Дикие сердцем», про который мы с вами говорили, собака несет кисть руки Бобби Перу, такого страшного человека, мы не успели, к сожалению, про него поговорить, его играет Уилллем Дефо, но это какие-то отдельные элементы. Постепенно, постепенно, я говорю, что это должно — в топку надо подбрасывать еще и еще — постепенно и такой бытовой каннибализм становятся забавным, не таким ужасным, как в фильме «Повар, вор, его жена и ее любовник», а забавным, как укол в сердце Мии Уоллес, как вот это ухо. Это становится забавным, это становится поводом для эйфории, для зависания на краю.
И в последнем фильме Брюно Дюмона, который большим успехом пользовался на Каннском фестивале «В тихом омуте», название тоже очень говорящее, конечно же, вот этот мир, который создает постмодерн, — это некий тихий омут, он тихий, но вообще-то это омут, это опасность. Там действуют такие милые каннибалы, которые в свободное время переносят отдыхающих — это где-то происходит в начале XX века, но понятно, что ситуация абсолютно современная, не модернистская, а именно постмодернистская, — переносят отдыхающих на острова на закорках, а потом их тихо поедают. У них стоит большая бочка, там то ли объедки, то ли консервы, непонятно. И все это нормально, все это весело и, в общем, всем довольно забавно, потому что совершенно другое отношение к тому, что вы видите на экране. Есть еще фильм, по-моему, «Человек-нож», мне мои студенты во ВГИКе наперебой о нем рассказывали, где тоже нечто похожее с членовредительством происходит, и все довольны, все ощущают это как прикол.
И любопытная еще вещь, которая тоже достаточно характерна. Я тут выбрал два фильма Дюмона, которые прекрасно это иллюстрируют, — закон должен стать вне закона. Если преступление у нас становится чем-то желаемым и чем-то интересным, замещающим драматизм, чем-то, вызывающим наиболее приятные для нас ощущения, то закон должен быть вне закона. И поэтому полицейские постепенно, это тоже искусство развивается, вот это потрясает, когда сталкиваешься с этой динамикой, постепенно превращаются в карикатурных идиотов. Мы знали о том, что карикатурный идиот де Фюнес, если помните, да? В фильмах о Фантомасе, но Фантомас был злодеем, никто не говорил, что он чудный парень, веселый каннибал, что он всех ест, какое счастье. Ничего этого не было, он был все равно... это был комический жанр, поэтому это было возможно. Но полицейский — постепенно его становится не жалко. Вот в фильме «На последнем дыхании» полицейского, которого убивает Пуаккар, его не жалко, а он ведь убил человека, и мы это очень быстро забываем, мы совершенно не ставим это Пуаккару в вину, потому что полицейского не жалко. И постепенно не только не жалко полицейского, но они смешны, полицейские, вот эти дурацкие полицейские в сериале очень интересном Брюно Дюмона «Малыш Кенкен», по-моему, это шесть серий, его тоже в Канне как-то показывали. И «В тихом омуте» еще один чудный толстый полицейский, которого потом надувает как шарик, и там очень много шуток по поводу воспарения, вознесения таких верующих дамочек. И полицейский тоже, по несчастному стечению обстоятельств, его надувают, и он как шарик воздушный летает. То есть закон подвергается невероятным насмешкам, потому что модель перевернута, потому что все должно восприниматься иначе, иначе чувство эйфории не возникнет, иначе вы не выйдете из состояния аффекта и состоянии тревоги, потому что драматическая модель будет актуальна. Здесь драматическая модель должна быть не актуальна.
И что происходит в целом: пересотворяется мир на самом деле. Есть такое понятие «хаосмос», который ввёл Джойс, а постмодерн его подхватил, и все теоретики постструктурализма тоже им активно пользуются, — это новое качество, вот новое качество мира. Я говорю об этом потому, что это не просто некая художественной находка, некое художественное течение и что от Годара к Тарантино, предположим, или к Триеру просто стилистические какие-то эволюционные моменты нас ведут. Нас ведет слом мировоззрения, другая вселенная открылась, и в этой вселенной господствует, естественно, вечный кайф, потому что в этой вселенной смерти нет, эсхатология в этой вселенной не действует, вот то, что Вайль сказал: «Постмодерн — это навсегда», это та условность, в которой существует постмодерн. Если он не навсегда, он не может существовать, тогда он разваливается, тогда это иллюзия крушится, она разваливается, ее не существует.
И помимо того, что это отсутствие эсхатологии, еще в «Беспечном ездоке» тоже одна из песен, которая там звучит, там много таких знаменитых рок-н-роллов использовано в качестве саундтреков, и, в частности, I Never Wanna Die «Я не хочу умирать». Но тогда это было как «не хочу умирать». А, скажем, в фильме «Подземка» Бессона я уже и не не хочу умирать, я не могу умирать, а герой Фред, которого играет Кристоф Ламберт, это картина 1985 года, он фактически повторяет, и это сознательно сделано, он даже носит темные очки, как Годар, это тоже некоторый оммажГодару и фильму «На последнем дыхании» — он повторяет Пуаккара, это история Пуаккара, если Пуаккар, если вы помните, делал свою знаменитую гримасу ртом, движение ртом, и умирал на глазах у своей возлюбленной, то Фред Бессона, — учитывая все скидки на жанр, это не драма, это все-таки комедия, но постмодерн вообще внутри себя всегда немножко комичен, потому что е иначе какая эйфория без веселья, — он не умирал, вернее, умирал, а потом вдруг начинал весело петь песенку, подпевая ансамблю, который он собрал, который играл в этой подземке, и подземка эта — не совсем подземка, это уже целый мир. И это ужасно важно, потому что это невозможно, потому что нельзя умереть.
Вообще все разговоры об эвтаназии — это тоже попытка управления смертью, это в принципе постмодернистская категория, конечно же, потому что человек должен взять смерть в свои руки, потому что если смерть человеку не принадлежит и он умирает не по своей воле, то тогда эта опасность всегда рядом, всегда смыслы, связанные с бездной, с отсутствием смыслов, всегда рядом, вы всегда можете рухнуть в бездну, оказаться в этой свободе. Если вы смертью повелеваете, если вы ею управляете, то эта смерть включена в то существование, она как бы часть существования, вы ее обезвредили, вы вынули запал из смерти, и эвтаназия — это изымание запала из смерти, как мне кажется, во многом. Это сложная проблема, ее нужно отдельно обсуждать и анализировать, но она входит в круг мировоззренческий постмодерна, и она очень важна.
Более того, меняется понятие рождения. Это происходит в фильме «Париж, Техас», вот я не сначала не очень придавал этому значение, а потом как-то… Вот, пожалуйста, вам две смерти: Бельмондо в роли Пуаккара и Ламберт в роли Фреда — это абсолютно две разные смерти, этот человек, открывший глаза после смерти. И любопытнейший история происходит с временем —это прежде чем мы скажем о рождении. Время, как вы помните, исчезало, было потерянным не только у Пруста, но и у Бергмана это часы без стрелок. Что касается Тарантино, то время прекрасно идет, но это не потерянное время, а я бы сказал, в прямом смысле спрятанное время. Главный герой рассказывает своему брату, когда он возвращается из своей изоляции, непонятного места под названием Париж,Техас, он говорит о том, что это место, вот он к нему лично душевно привязан, это место, где наши родители, произошло мое зачатие, Париж,Техас — это место, где произошло мое зачатие. Не рождение, его абсолютно не интересует рождение, его интересует именно зачатие. Меняется совершенно момент начала жизни, оно связано не с мукой, не с аффектом — в муках будете рождать детей своих, — а с эйфорией, с зачатием, совершенно другим состоянием. То есть меняется не только конец жизни, но меняется и начало жизни, и время внутри жизни. Потому что постмодерн, я еще раз повторяю, — это вселенная, вот эти каникулы, экзистенциальные каникулы, которые объявляет постмодерн, они меняют все представление о существовании человека — в целом, и это чрезвычайно важно.
И теперь, завершая разговор по нашему циклу «Стратегии бессмыслия», очень важно сказать о том, как постмодерн борется с реальностью. Дело в том, что, собственно, если говорить о шестьдесят восьмом годе, то просто кино — родоначальник постмодерна, и с кино, собственно, постмодерн начался. Но почему так поздно? Постмодерн в искусстве, в литературе, «Имя розы» — тоже библия своего рода постмодерна в литературе, в архитектуре. Джеймисон, в частности, писал в основном об архитектуре, а не о кино. Кино созревает до постмодерна в произведениях таких глобальных художников, как Дэвид Линч, как Тарантино, как Триер в 90-е годы XX века, только под самый конец, хотя постмодерн, конечно, — гораздо более раннее явление. Почему? Да потому что постмодерну сопротивляется реальность, которая является основой кинематографа, потому что реальность сама по себе несет смысл, она сама по себе апеллирует к общему смыслу. Верующий вы человек или неверующий. Вот, скажем, Базен, Андре Базен был верующим человеком и он говорил о том, что «реальность способна раскрыть потаенный смысл вещей и существ в их естественном единстве», то есть именно общий божественный смысл. Но Зигфрид Кракауэр, другой теоретик кинематографа, неверующий, атеистического взгляда на мир, он тоже понимал, что кинематограф самой своей природой дает восходящие смысловые токи, он все время апеллирует к какому-то смыслу, который заключен в самой реальности, сотворенной реальности. И вот это, безусловно, тот тормоз, который для постмодерна самой реальностью кинематографу и был поставлен. И проблема кинематографа постмодерна состояла в том, чтобы победить реальность. Как это сделать? Ну поначалу очень много было связано с разными условными формами преодоления реальности, это вот место рождения, зачатия, вернее, нашего героя Трэвиса, это мир подземки, который становится миром, сейчас вот мы как раз об этом и поговорим.
Дело в том, что кинематографу надо было с реальностью что-то сделать, чтобы она не продуцировала смыслы сама по себе, сама по себе, потому что в кинематографе есть такая поразительная вещь… Был теоретик такой кино неомарксист Люсьен Сэв во Франции, у которого ранняя еще работа сороковых годов, посвященная кино, я, к сожалению, даже не смог ее найти, она только цитируется в работе Кракауэра «Природа фильма». Он говорит о том, что у кино есть анонимная стадия реальности, есть то, что существует само по себе: вы видите кадр, вы видите героев, они как бы определенным образом преподнесены вам режиссером, но есть еще и анонимная стадия реальности, реальность, которая существует как фон, которая существует в каких-то проходящих людях. Случайный человек — это, вообще, символ кинематографа, который отмечал еще Гриффит и Эйзенштейном. Случайное то, что есть, собственно, природа материи кинематографа, и как с этим управиться, она продуцирует смысл сама по себе. И в этом отношении кино, конечно, сначала предложило невероятную условность, там, Монти Пайтон Терри Гиллиама, и это условность, собственно говоря, и картины Дэвида Линча — это все-таки немножко маски, Тарантино — это немножко маски. Но надо было что-то делать и с реальностью, надо было как-то реальность ввести в тот мир, который создал постмодерн, в то мировоззрение, которое было для него естественно. Как это сделать? И это сделалось вот по чуть-чуть по чуть-чуть, начиная с той маленькой точки Париж, Техас, который выбрал герой для того, чтобы там жить. Этот герой — он еще не идиот триеровский, Трэвис, но он уже немножко отмороженный, то ли связанноей с амнезией что-то произошло, то ли он аутист, мы не знаем, это еще как бы ранее стадия, да, это еще не модель в чистом виде, которую предъявил Триер. Но он уже пытается реальность вокруг себя сгруппировать, сделать ее маленькой. Париж,Техас — это то место, которое он выкупил, чтобы там жить, он оттуда отлучается в большой мир и потом возвращается в это место, но для нас это некая точка на карте, не случайно это называется Париж, Техас — это не Париж. Существует некий большой мир, он существует, а надо создать свой — маленький, параллельный, другой мир, в котором реальность будет подконтрольна тому мировоззрению, которое предлагает постмодерн. Создание этой реальности — это огромная работа, которую постмодерн проделал.
В фильме «Подземка» это уже развернутая реальность, но она под землей находится. Тоже прекрасный, совершенно гениальный ход Бессона, он в подземке создал мир: там есть кафе, там играют на инструментах, там музыканты, там можно кататься на роликах. Это город, город под землей, в который, но город еще очень условный, потому что он сконструирован. Надо было сделать что-то такое, чтобы перешагнуть границы условности, которые и сейчас еще актуальны. Вот Рефн, «Неоновый демон», пожалуйста, — вот условная реальность, это чистая игра масок, чистый карнавал без всякой, естественно, без всякого последующего поста, естественно. Карнавал довольно зловещий, потому что уже надо разогревать праздник непослушания по-настоящему, и это достаточно модное современное кино, но оно как раз от реальности отгорожено определенной условностью.
Но нужно было сделать что-то нужен был художник, который смог бы реальность, вернее, ввести постмодерн, сознание постмодерна в реальность как таковую — не условную, не маленькую, не параллельную — «Париж, Техас», не подземную — «Подземка» Бессона, а настоящую, и это сделал Ларс фон Триер, безусловно. Поэтому он присягал «новой волне», поэтому он с таким жаром говорил о том, что мы сделаем все как «новая волна», мы сделаем настоящую жизнь, мы покажем вам настоящую жизнь. Но, для того чтобы показать настоящую жизнь, ему нужно было идиотизм в эту настоящую жизнь впрыснуть. И в этом смысле самый порнографический, с моей точки зрения, кадр ни с каким голым телом вообще не связан, это финал, финал «Идиотов», когда героиня Карэн, которая вошла в общину идиотов, живет с ними, и которая приняла идиотизм как эликсир, как некое средство от драмы, которую она пережила — она потеряла сына, и это ее излечивает. И она пытается вернуть это свое знание своей свой идиотизм в мир, она пытается выплеснуть это в мир. Она возвращается свою семью, которая переживает уже не только смерть сына, но и ее исчезновение, она приходит в эту семью и начинает за завтраком, если вы помните эти кадры, выцеживать через губу торт, крем у нее течет по губам, и тогда муж дает ей пощечину, и она уходит из этого дома — навсегда, мы не знаем, на сколько. Но она попыталась, по крайней мере, ввести ту реальность идиотизма, который синтезировал Триер как жизнь общины, в реальность. У нее у одной это хоть как-то получилось, она сумела быть идиотом в реальной жизни, и это первая, может быть, такая экспериментальная — потому эта картина и остается как эксперимент — попытка внести, инфицировать, если угодно, инфицировать жизнь идеологий и мировоззрением постмодерна и мировоззрением абсолютных каникул, абсолютным идиотизмом, абсолютным простодушием, инфицировать, сделать реальность такой же бессмысленной, как сама эта идеология жизни на краю, задержки на краю, пребывания на краю, чтобы реальность подчинилась этой идеологии.
Вот этот шаг, мне кажется, как раз и был сделан Триером. И что любопытно — вот я вам сейчас покажу кадр из фильма, два кадра из фильма «Бартон Финк», вот это мир на картинке, условный мир, с этим играет искусство, потому что постмодерн понимает, он рефлексирует свою природу, он понимает, на каких устоях он держится, на каком фундаменте он держится, он с этим играет. И больше всех, конечно, братья Коэны, потому что они вообще как бы и постмодернисты, и немножко вне, в них очень много рефлексии по поводу постмодерна. Это картинка, которая висела над рабочим столом писателя Бартона Финка, а потом в финале — то есть некий условный мир, а потом этот условный мир становится реальным, и это и есть как раз попытка вдохнуть условный мир в реальный мир, что они идентичны, что они могут быть одним и тем же.
Но братья Коэны делают совершенно потрясающую вещь — вот по этому реальному нереальному фону вдруг у них в этой картинке, это называется найдите одно отличие, в этой картинке нет птички, а вот здесь, в реальной жизни, вдруг пролетает птичка — тот самый случайный прохожий, случайный элемент, та самая анонимная стадия реальности, которая вдруг вторгается в этот условный мир. Они говорят: ребята, вы можете построить мир, вы можете впустить идиотов в этот реальный мир, вы можете всех сделать идиотами, но птичка-то пролетит. Они это понимают, и они это показали. Но Триер своими «Идиотами», конечно же, попытался поймать эту птичку и сделал это очень ловко: он закрыл небосклон, не небосклон, а небосвод — это более важное слово, он закрыл небосвод, и птичка, в сущности, в эстетике постмодерна перестала существовать. В каком-то смысле постмодерн реальность победил, ему это удалось, это великое и без кавычек достижение, потому что на это было потрачено огромное количество времени, и это было сделано необычайного умело.
И последнее, о чем я хочу сказать, это небольшая заключительная глава в нашем разговоре сегодняшнем, потому что, естественно, возникает этот вопрос: вы тут е нам все рассказываете про то, что смысл исчез, что вот был общий смысл, его не стало, и как без него плохо, и как вообще обходиться без тревоги, и стратегии бессмыслия, и так далее так далее так далее, все про XX век, а вообще смысл-то вернется или не вернется?
Но вообще все говорят о том, что он вернулся. Вот самое потрясающее. Все мои коллеги, и Андрей Плахов м говорит, что постмодернизм закончился, Антон Долин говорит, что постмодернизм угасает, что многие говорят, что никто уже не оспаривает, что постмодернизм кончился, и вроде бы все хорошо, все вернулось на круги своя, давайте ребята, смысл вот и реальность вернулась, и все хорошо. Но вот интересный момент: где точка постмодерна? Она поставлена, и многие это признают в разных дискуссиях, это обсуждают. 11 сентября 2001 года, взрыв «близнецов». Эта катастрофа считается катастрофой, которая, собственно, переборола бессмыслицу, которая вернула людям смысл, которая стала таким шоком, который перебил шок, порождаемый искусством. Но так ли это, вот в данном случае могут быть разные точки зрения, потому что это вопрос спорный, вопрос открытый.
Мне кажется, что это категорически не так, потому что это переход постмодерна совершенно в новую, скрытую и очень трудноуловимую стадию, он рассыпался, как зеркало в «Снежной королеве», зеркало троллей, на множество-множество кусочков. Вот заметьте, что происходит, сейчас все говорят: постмодерн кончился, уже нет ничего, нет никакого постмодерна, но есть гипермодерн, есть трансмодерн, есть постпостмодерн, он рассыпался на множество-множество кусочков, и его очень трудно теперь ухватить, это невероятно сложно устроенная конструкция, которая развивается, мутирует. Это в каком-то смысле живой организм культуры, за которым невероятно интересно и в каком-то смысле, если вспомнить слова Патриарха Кирилла, страшно следить, потому что он невероятно интересно и сложно развивается.
И вот я вам скажу поразительную вещь, которая… у меня просто, как теперь говорят, взрыв мозга произошел. Вы знаете, что архитектором «близнецов» был Минору Ямасаки, тот же самый, который был архитектором взорванных в Сент-Луисе домов? Вот невероятное совершенно искушение, которое постмодерн предлагает нам в смысле реальности. Казалось бы, вот реальность, но как она сконструирована невероятно. Это вот действительно Триер сделал свое дело в каком-то смысле, только он не предполагал, что покатится мир ко всем чертям таким страшным образом. Конечно, когда он говорил о своем фильме «Идиоты», что норму, в общем-то, нарушать опасно, он не предполагал, что 3 тысячи человек одномоментно погибнут, и это будет невероятным аттракционом, вызывающим, как это ни кощунственно звучит, эйфорию, а не аффект. Это аттракцион невероятный, это парк развлечений, самолеты врезаются, вы посмотрите на это, это невозможно себе иначе представить. Это картина непредставимая, это некая условность, но это же условность и реальность, вот как и птичка пролетает, но какая это птичка, вы понимаете, что и птичка стала в каком-то смысле миром постмодерна, она не нарушает уже эту картинку, она является ее частью.
И это заставляет нас задуматься еще об одном. А где вообще горизонт смысла, как далеко он сейчас находится, как далеко мы от него ушли, ведь он очень хорошо ощущался даже в таких картинах, как «На последнем дыхании». Вы знаете, есть кадр вообще необъяснимый в картине «На последнем дыхании», когда Пуаккар во время своих блужданий по Парижу вдруг видит сценку, мало кто помнит об этом, этот кадр есть в картине, видит сценку, сцену скорее, потому что сценка — не очень подходящее слово, как машина сбивает человека, человек погибает. И что делает Пуаккар, как вы думаете? Он крестится. Ничего более невероятного для Пуаккара придумать себе невозможно, уж ,казалось бы, человек так далек от этого, и тем не менее это не рефлекторное, а нечто очень важное, потому что Годар ведь неплохой художник, он ничего случайного не оставит. И раз он это оставил, значит, ему это было важно, ему было важно, чтобы этот горизонт существовал, или, по крайней мере, он его увидел, и для него было бы нечестно это не показать, он это показал, потому что это так.
То же самое в картине «Беспечный ездок», уже другая стадия да, казалось бы, но когда погибает герой Джека Николсона, звучит рок-н-ролл, я бы сказал, литургический рок-н-ролл … «Господи, помилуй» за кадром, но это важный момент, я уже не говорю о финале, когда они попадают в публичный дом, куда как бы герой Николсона так невероятно стремился, чтобы подразвлечься помимо карнавала еще в Новом Орлеане, там тоже надписи библейские на стенах этого публичного дома. Этот горизонт существует в любом месте еще тогда. И что происходит сегодня? Возьмите картину Тарантино, потрясающий тоже момент для меня с точки зрения того, как культура развивается, как она себя манифестирует, как она о себе говорит. «Омерзительная восьмерка». В самом начале, если вы помните, возникает вот такой кадр: придорожное распятие, мимо него проезжает дилижанс, потом начинается кровавое месиво, больше об этом распятии ничего — связанного ни с распятием, ни с библейскими сюжетами из христианской культуры, — ничего сказано не будет, все будет только наперекор, только в пику, ничего не будет, зачем, спрашивается? Для того чтобы — мне кажется, опять же это некая интуиция художника, — для того чтобы эта дистанция все-таки существовала, она уже непроверенная, это распятие ни к селу ни к городу, это вам не крестное знамение Пуаккара в связи с тем, что произошло на улице — драма, реальная драма, оно ни о чем не свидетельствует, ни к чему не призывает, оно просто номинально существует. И в каком-то смысле оно даже жанрово перепрограммировано, потому что это распятие в каком-то смысле мрачное предвестие того, что произойдет потом в этом постоялом дворе, где все друг друга поубивали. Но распятие остается распятием, смысл остается смыслом, и реальность этого кадра остается реальностью.
Или другой момент. Не такой безумный и пассионарный уничтожитель смыслов как Тарантино, Брюно Дюмон, человек с философским образованием, в последней картине «В тихом омуте» — тоже наворот событий, каннибалы, бесконечное издевательство над литургическим действом, все, как полагается, парк развлечений в полном наборе. И вдруг в конце мы видим, спрашивается тоже — зачем, но специально выбран объект, специально выбрана локация в районе в Нормандии в районе монастыря Сен-Мишель, естественно, это сделано с помощью графики очертания этого монастыря, они как бы представляют нам разрушенную некую такую культовую постройку, и мы видим это на горизонте, вы можете этого не увидеть, но это есть в кадре, если вы хотите это увидеть, вы это увидите, смотрите эту картину, вы увидите. Зачем на горизонте, спрашивается, появляются развалины монастыря у Дюмона? Значит, эта дистанция все-таки существует. Она уже практически не промерена, она уже не связана ни с каким драматическим массовым ощущением или переживанием внутри той реальности, которая представлена на экране, но она существует на горизонте, она все равно еще существует.
И что происходит вот в этом мире, который уже отстранился, где распятие ни к селу ни к городу, что происходит с драмой? Драма, как ни странно, вместе с реальностью возвращается, но эта драма, что научился делать постмодерн, это уму непостижимо, он научился подвешивать драму, вскрывать ее смысл, убивать смысл внутри реальности. Как это происходит?
Вот посмотрите, как называются одного из культовых режиссеров картины, культовых режиссеров начала двадцатого века Михаэля Ханеке, как они называются: «Скрытые», «Код неизвестен». Итог никогда не возникает в конце фильма, он спрятан внутри, как макгаффин какой-то, вы не выйдете никогда к итоговому смыслу, он всегда подвешен.
И я хотел бы сейчас уже, заканчивая, вспомнить картину, которая недавно номинировалась на Оскар, то есть в этом году, на последнего Оскара и довольно успешно прошла у нас по нашим экранам, до сих пор, по-моему, еще идет — «Три билборда на границе Эбинга, Миссури». Что происходит в финале? Если вы помните, там героиня Милдред и такой полицейский, который кажется сначала совершенно невероятно жестоким и отвратительным, потом оказывается ее союзником, они едут убивать предполагаемого преступника —убийцу дочери Милдред. И какой между ними происходит разговор: «Ты точно решил убить?» — «Не совсем». — «Я тоже по дороге решу». Драма опрокидывается внутрь самой себя, она не может развиться, она подвешивается, потому что не может быть итога, и какие-то герои ниоткуда и никуда, они замкнуты в этом пространстве, реальность стала реальностью, драма стала драмой, но это подвешенная реальность, если посмотреть на нее всерьез, это подвешенная драма, код которой всегда неизвестен, иначе быть не может. Если он станет известен, вы вернетесь к смыслу, а это невозможно, это губительно, это смертельно в той ситуации и на той площадке, на который обустраивается постмодерн.
Если выход в этой ситуации? Вопрос важный и интересный. Мне кажется, что он только внутри человека, и такие картины, как те же самые «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» об этом, мне кажется, красноречиво свидетельствует. Помимо той финальной сцены, где драма подвешена, есть неожиданный выход из той ситуации, которая разыгрывается в этой картине, из той драмы, которая разыгрывается в этой картине. Как ни странно, не буду даже называть имя этого критика, это хороший мой товарищ, но это уже так получается, мы так воспринимаем всё, он называет этот эпизод «ну есть там еще тот проходной эпизод», самый важный эпизод в этой картине он называет проходным, потому что наше сознание поменялось совершенно. Это эпизод, когда героиня устраивает нечто вроде мемориала около этих билбордов, потому что ей не важно найти убийцу, ей важно сохранить память, ей важно вернуть то время, когда она сделала ошибку, когда она дурно вела себя со своей дочерью, и это чувство вины, которое она реализует, она сажает вокруг этих билбордов цветы, это фактически могила, ей нужна могила, на которую бы она могла приходить. И в этот момент из леса выходит олень — душа это ее дочери или что-то еще, как говорится, в этой картине неважно. Но что она говорит в этот момент? Если вы сидите, то сидите прочнее: «Бога нет, мир пуст, и неважно, как мы поступаем друг с другом, надеюсь, это не так».
Еще один чрезвычайно важный момент в картине «Тони Эрдман», которая тоже очень хорошо прошла, получила много европейских Оскаров, номинировалась и на американский Оскар 2016 года, режиссер Марен Аде, молодая режиссер, немецкая, принадлежащая к берлинской школе, которая занята как раз не то чтобы обессмысливанием объективации реальности, устранением смысловых акцентов в реальности. Очень много хороших картин в этом смысле ими сделано, интересных картин, и вот Марен Аде делает картину «Тони Эрдман», в которой происходит поразительная вещь. Тоже как бы пытается отец, надевая эти клоунские зубы — вспомните, Пеннивайза, страшного клоуна, — пытается вывести свою дочь из офисной горячки, в которой она пребывает: она занята только офисными делами, бизнесом, и совершенно нет уже в ней ничего, никакого человеческого начала. Юмором, игрой он пытается вывести ее из этого состояния, но из этого ничего не получается. Наши все критики ухватились — вот, ну вот, конечно, старые отношения отца с дочерью невозможны, ничего это невозвратно, надо играть, надо шутить, и тогда что-то получится. Но шутки все плохо кончаются. Даже когда она случайно раздевается и устраивает так называемую нейкид-вечеринку, это становится просто новой игрой, а не протестом, ничего не происходит, не взрывается ситуация. Отец, который надевает костюм, что-то вроде костюма Чуббаки, он чуть не теряет сознание, потому что ему дико жарко, вот чем кончается игра. А фильм кончается тем, что отец с дочерью остаются наедине, и отец говорит ей о том — случайный разговор в середине картины: а в чем смысл, вообще, жизни — вдруг слово смысл возникает, она спрашивает отца, и он ей не отвечает, а потом он говорит: смысл в том, что вот, я стоял на остановке и ждал тебя когда-то, учил тебя кататься на велосипеде, вот в этом смысл, — и уходит. А дочь остается с теми зубами, которые дал отец, клоунскими зубами. И что она делает? Это важнейший жест в культуре XXI века, я не преувеличиваю в данном случае: она снимает эти зубы и остается наедине сама с собой. Вот когда возникает момент смысла, когда возникает момент прозрения, возможность человека остаться наедине с собой открывает эту лазейку в той реальности, которая уже практически окончательно слилась с аттракционом, которым становится даже такой страшный аттракцион, как 11-9-11. Все.
Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.