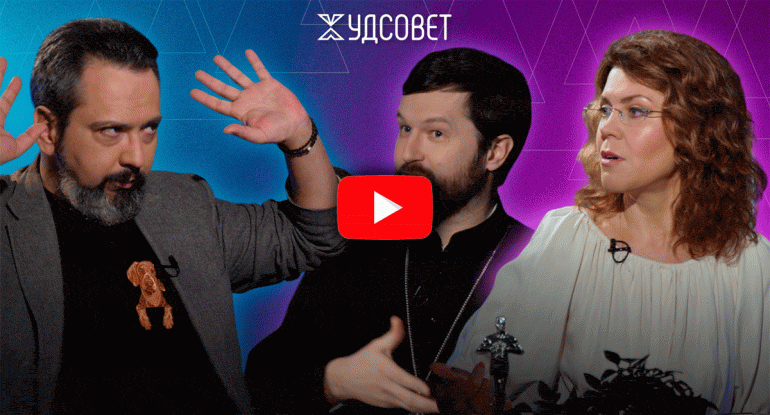Смотреть «Страсти» я пошел с определенным настроем — на «очень тяжелый фильм». Против моих ожиданий, лента глубоко меня не тронула. Правда, несколько моментов произвели сильное впечатление. Но они не связаны с основной идеей: показать ужасные страдания, которые претерпел Господь.
Тезис
Один из таких моментов — это когда параллельно с несением Иисусом креста по улицам Иерусалима показывают вход Господень в этот город; и зритель видит, как толпа, неделю назад устилавшая путь Христа пальмовыми ветвями, теперь толкает Его на смертный крестный путь.
Самым трогательным, самым сильным для меня был момент, когда к Христу, упавшему под тяжестью крестной ноши, бежит Мать, перед глазами которой встает картина из детства ее Ребенка, падающего на землю.
Эти моменты сняты очень здорово, очень проникновенно. Они сильны именно своей человечностью, своим умением создать эффект присутствия: понудить зрителя к сопереживанию, к тому, чтобы почувствовать тяжесть страданий, со-страдать... Разве это не свидетельствует о мастерстве создателей, о том, что фильм достигает поставленной цели? Казалось бы, ответ напрашивается сам собой. Но вот я задаюсь вопросом: а что бы я чувствовал, если бы посмотрел подобный фильм, но не о Христе? Представьте себе такой же фильм, снятый на историческом материале, и повествующий о тюремных пытках и крестной смерти какого-нибудь человека. Не Христа. Повлияли бы на меня точно так же тогда эти (и другие) сцены? Трудно ответить однозначно, но, полагаю, что да. Хотя я знаком с евангельским текстом, понимаю, что и зачем снимает Гибсон. И все же...
Почему-то вспоминается антиклерикальный роман Этель Лилиан Войнич «Овод», в котором главный герой-революционер, обращаясь к священнику, говорит: «За что вы любите Его? За пробитые руки? Посмотрите на мои!» Разговор происходит в темнице, где этот революционер пребывает в заточении... Вспомнил и сам спохватился: сравнение-то некорректное! Революционер-герой страдает за идею, которая, как известно из истории, не только не освободила людей, но принесла им еще больше горя, еще большее закабаление. К тому же вряд ли этот герой может служить образцом чистоты и добродетели. Христос же страдает безвинно, будучи совершенно чист, и страдает за все человечество, искупая грехи всех прошлых, настоящих и будущих поколений. И любим мы Его на за пробитые руки. Крестная смерть — страшна, мучительна, безобразна. Но, простите, есть вещи и пострашнее. Главное не то, что распяли. А то, что распяли Сына Божьего. Который, безвинно претерпев за нас тяжелейшие мучения, воскрес, победив смерть, подарив нам — даром — жизнь вечную и освободив нас от тяжкой, рабской зависимости греху. Подняв нас с колен, на которые мы — Адамом и Евой — встали еще в Эдемском саду. Апостол Павел в одном из посланий так говорит об этом: Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор 15:14). Если не воскрес. Воскресение — вот главный смысл подвига Христа. Без Воскресения Спаситель превращается в доброго учителя нравственности, зверски замученного проклятыми фарисеями.
Конечно, если оценивать историческую точность и реализм съемок — «Страсти Христовы» много лучше всего, что снято до этого. Если же попытаться с помощью фильма ощутить главный евангельский смысл — проблема сохраняется. Ведь Евангелие — не рассказ о том, как страшно распятие, а прежде всего, весть радости (евангелие с греческого перводится как «благая весть»). Радость о том, что Христос воскрес. И значит, мы воскреснем вместе с Ним. Но именно этого я, к сожалению, в фильме Гибсона не увидел.
Я знаю, что многих зрителей фильм глубоко тронул, потряс. Поэтому долго колебался, прежде чем высказать свое мнение. Просто потому, что очень хорошо представляю, как неприятно, когда кто-то скальпелем хирурга режет по живому, дорогому и близкому. Как тяжело, когда переполняют чувства, а тебе предлагают рассудочные доводы.
И все-таки перед нами — кинофильм, произведение искусства. Которое каждый волен понимать и ощущать так, как ... Как понимается и ощущается. Поэтому я нисколько не пытаюсь сказать, что мое зрительское переживание — правильное. Правильным для каждого может быть только то, которое ты сам пережил и перечувствовал.
Лично я не смог увидеть в фильме чего-то большего, чем страшные сцены мучений. Не сумел. Христа Евангельского я там не увидел. Созданный режиссером и актером образ (а искусство всегда работает с образами) оказался для меня неубедительным.
Фальшиво — от начала до конца — выглядит вся линия с сатаной, присутствие которого просто кажется лишним. Особенно последняя «сатанинская» сцена, снятая в стилистике какого-нибудь «Адвоката дьявола». Подобное использование спецэффектов здесь абсолютно не смотрится и ломает, как мне кажется, попытку передать евангельский нерв. (Конечно, профессор богословия здесь может увидеть такие религиозно-философские глубины, которые простому смертному и не снились. Но в этом-то и вся проблема. Нельзя же вводить зрительский ценз по диплому о богословском образовании! Даже если согласиться, что фильм снят для тех, кто знаком с Евангелием, то для «простых смертных» это будет слабым утешением.)
Довольно статичными, безжизненными получились и некоторые другие герои. Например, апостол Иоанн проходит через весь фильм с двумя выражениями лица. Игра актера, изображающего Христа, тоже не проникает в душу. Наверно, многие со мной не согласятся, но мне наиболее убедительной показалась актриса, игравшая Деву Марию. Она смогла передать материнскую скорбь, сопереживание страданиям Сына. Замечательный кадр — материнские руки, хватающие землю перед Голгофой... Незамысловатый, в общем-то, кинематографический прием, но очень действенный. На мой взгляд, он сильнее, чем страшные избиения и порванное тело актера, игравшего Христа...
И все же многим своим друзьям и знакомым, в первую очередь мало знакомым с Евангелием, я советовал фильм посмотреть...
Антитезис
В церковных кругах по поводу фильма сложилось несколько основных точек зрения. Первая: в целом положительная оценка фильма, который рекомендуется посмотреть всем — и верующим, и неверующим. Одним — как фильм-напоминание и назидание, другим — как фильм — начало пути. Гибсон в такой оценке предстает искренним христианином, снявшим очень удачный фильм о Христе. Вторая позиция — более осторожная — исходит из того, что фильм далек от подлинно глубокого изображения евангельской истины, но в наше время для человека неверующего или только-только подходящего к вере он может стать в каком-то смысле даже откровением. Поэтому его нужно смотреть — особенно тем, кто еще не соприкасался с Евангелием. И, наконец, третья точка зрения: фильм не рекомендуется смотреть никому, особенно ищущим веру людям, потому что человек, посмотревший его, будет жить с таким вот образом Христа, а он, этот образ, чрезвычайно далек от евангельского. Актер играет, изображает Христа, Богочеловека, а это само по себе невозможно и поэтому недопустимо.
Мне ближе всего та позиция, что фильм, со всеми оговорками и замечаниями, смотреть все же стоит. Хотя за иными точками зрения я также готов признать определенную логику. При этом мне кажется, что противники фильма исходят из того, что потенциальный зритель находится в ситуации выбора между фильмом Гибсона и походом в храм, между фильмом и безмолвной молитвой исихастов, фильмом и литургией, фильмом и утренним и вечерним правилами. А это, конечно, вещи несравнимые. Выбор для современного нецерковного человека нередко состоит не в том, чтобы пойти в церковь или пойти в кино, а в том, пойти ли на «Страсти Христовы» или на «Техасскую резню бензопилой», или на очередной конец света со Шварценеггером. Поэтому принципиально важным становится вопрос о возможной альтернативе Гибсону: что можно предложить большинству тех зрителей, которым советуем или не советуем смотреть «Страсти».
Мне кажется, выбор следует сделать в пользу «Страстей». Я не думаю, что образ, который пытался передать актер, навсегда запечатлится в сердце человека, и если он придет в Церковь, то не сможет от него избавиться и даже Евангелие будет читать через призму фильма. Конечно, я согласен с тем, что кинематограф — самый агрессивный вид искусства. Кино меньше всего оставляет возможность для свободы интерпретации. Но именно поэтому оно менее всего глубоко. Всегда дольше, на мой взгляд, переживаешь книгу, чем фильм. Эмоционально, может быть, кино сильнее. Но эти эмоции уходят так же быстро, как и пришли. А вот если кто-то после просмотра «Страстей Христовых» возьмет в руки Библию, станет более уважительно относиться к христианству, к Церкви, или просто вынет крестик-украшение из уха, то это, на мой взгляд, уже хорошо.
Вот почему фильм Гибсона не кажется мне вредным. Его можно отнести к той категории средств, которые способны помочь человеку задуматься о Христе. Кому-то впервые, кому-то далеко не в первый раз. Кому-то глубоко и надолго, кому-то всего на пять минут. Но именно помочь. В наше время этот фильм может сыграть ту же роль, которую в советское время сыграла рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Сколь угодно долго можно говорить о ее неканоничности, но никуда не денешься от свидетельств сотен людей, которые в советское время о Христе впервые услышали именно благодаря этой опере. Я не думаю, что кто-то из них и сейчас живет с образом Христа и апостолов в качестве таких ребят в джинсах. По крайней мере, те мои знакомые, для которых рок-опера стала отправной точкой в их пути, давно уже ее не слушают, а занимаются серьезным изучением трудов христианских отцов-каппадокийцев.
Попытка синтеза
Мне кажется, что фильм Гибсона замечательным образом демонстрирует разницу между западным и восточным христианством; подтверждает то, что различия между православием и католичеством реальны, а не надуманы, что восточный и западный пути христианства по-разному реализуются в культурном поле искусства, литературы, кинематографа, наконец.
Фильм «Страсти Христовы» — это закономерный результат католического сознания его режиссера, для которого важно создать эффект присутствия, важна реальность образов. С точки зрения метода, Гибсон безусловный традиционалист, если угодно — консерватор. Верный продолжатель той традиции, основание которой положили даже не реалистические картины художников Возрождения, а стигматы* {СНОСКА: Раны на теле в тех местах, где были раны у Христа.} Франциска Ассизского. И если христианский Восток стремится к обожению человека, к внутренней перемене, к стяжанию Святого Духа, то христианский запад, в стремлении подражать Христу акцентирует внимание на внешних моментах, стремится внешне пережить все те страдания, которые Христос претерпел в земной жизни, — отсюда феномен стигматов. Феномен, родившийся в средневековом католичестве и унаследованный протестантизмом — особенно современным. Но не встречающийся в традиции православной аскетики.
Гибсон хочет, чтобы сытое и ленивое человечество содрогнулось от того, как страдал Христос. Его фильм подчеркнуто реалистичен. Это не фильм-метафора, а фильм-документ. Документальный фильм. В этом его сила и в этом его слабость. Гибсон стремится к реализму так же, как к нему стремятся те художники XVII века, на картинах которых во время Тайной вечери Христос с учениками трапезничают как типичные бюргеры того времени: с вилками, жареными курицами и т. д. Прием, конечно, другой — те приближали искажением реальности под современность, этот — восстановлением исторической правды. Цель та же — создать эффект присутствия. Показать и доказать, что все это на самом деле было. Христианский Восток, напротив, стремится не столько к тому, чтобы утвердить верующего в историчности Христа, приходившего когда-то, сколько к тому, чтобы дать ему пережить реальную встречу с Сыном Бога Живого. Здесь и сейчас. Сегодня. Лично. Не на экране кино, которое все равно всегда вымысел, и не в полной эмоций душе, которая переменчива, а по-настоящему, на предельном онтологическом уровне — в Таинстве Евхаристии, в которой мы реально встречаемся с Христом, соучаствуем в Тайной вечере, переживаем Его крестные страдания. Поэтому художественный реализм здесь может даже мешать, поэтому православная иконопись, с точки зрения классического западноевропейского искусства, нереалистична.
Этот реализм мешает и Гибсону. Все издевательства и избиения, все страшные страдания на кресте не приближают нас к тайне христианства. Евангелие призывает нас любить Бога. «Страсти Христовы» понуждают проникнуться жалостью к человеку, который долго и мучительно страдает...
Да, Христос-Спаситель в принципе неизобразим — тем способом, которым Его пытается изобразить Гибсон. Поэтому такое кино о Христе вряд ли возможно. Оно в любом случае — где-то около Христа.
А православная Литургия — это прежде всего не Византийский обряд, а Таинство Евхаристии, которое было на Тайной вечере, которое совершали и первые христиане, и новомученики в недавнее коммунистическое время, в том числе в лагерях и тюрьмах. И которое совершаем мы сегодня, участвуя в Литургии.
Чувствуете разницу: Запад утверждает — поверьте, это правда было; Восток провозглашает — попробуйте, это есть сейчас. Ибо Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же (Евр 13:8). Мы можем не только знать то, что Тайная вечеря произошла, но и участвовать в ней. Участвовать наравне с апостолами...
Я уже слышу слова оппонентов: «Но ведь речь-то не о богослужении! А о кино!» Понимаю, господа. Я ведь и сам это чуть выше сказал. Проблема, или, если угодно, ситуация, в том, что сильнее переживается христианской культурой, на чем она делает акцент: на символическом и, значит, реальном богослужении или на метафорическом искусстве. Богослужение и кино не альтернативны, но они связаны. Они не могут не быть связанными друг с другом: и в культуре, и в конкретном человеке.
Эмоциональная, страстная мистика западных святых порождает не менее эмоциональное искусство, которое в своем развитии так далеко уходит от Христа, что теперь просто жаждет к Нему вернуться. (Иначе зачем Гибсону снимать такой фильм?)
Бесстрастная и безмолвная, величественная красота православной молитвы проводит такую жесткую границу между сакральным и профанным (даже свой национальный язык богослужения — не такой, как на улице), что любая «прямая метафора» (простите за оксюморон) на евангельскую тему переживается как фальш.
Что же лучше? Что правильнее? Мне православный подход ближе. Но не могу я однозначно отвергать и абсолютно все в западноевропейском опыте. Тем более что формироваться он начал задолго до раскола 1054 года. И этим западным путем шли не только «послераскольные» Франциск Ассизский и Фома Аквинский, но и святые неразделенной еще Церкви — Амвросий Медиоланский, Августин Гиппонский, Иероним Стридонский, Григорий Двоеслов и другие.
Да, говорить о Христе можно по-разному. Можно — достигая реалистического «эффекта присутствия», а можно, восхищая в Царствие Небесное. Как были восхищены гонцы, посланные в Константинополь князем Владимиром: «Не знаем, на небе или на земле были мы во время Богослужения».
Такой «эффект» достижим только Литургией, только в молитве. Фильм — это не молитва. Поэтому и требовать от него эффекта молитвы странно. Если не делать фильм и богослужение альтернативными, если исходить из того, что современный человек не способен беспрестанно молиться, то многое в оценке фильма Мэла Гибсона меняется.
Хорошо, если фильм заставит человека задуматься о своей жизни. Плохо, если человек заменит Евангелие фильмом. Если, растроганный игрой актеров, так и не сможет изменить свое сердце. Без этого — коренного изменения человека — нет христианства.
***
Выше я уже писал, что каждый зритель волен пережить и прочувствовать этот фильм по-своему. Хотя пережить и прочувствовать ты способен ровно настолько, насколько готов — духовно, эмоционально, эстетически, интеллектуально — к восприятию произведения искусства. Доктор наук заметит в фильме то, чего никогда не увидит недоучившийся студент; человек, давно и глубоко размышляющий над Евангелием, «прочтет» фильм не так, как тот, кто почти ничего не знает о Христе. И это тоже надо учитывать. Запрограммировать результат восприятия невозможно. В этом — природа искусства и его основной, на мой взгляд, искус. Поэтому главное, что мне представляется важным, — это невозможность абсолютизации какой-либо точки зрения. Ни моей собственной, ни моих уважаемых сторонников, ни моих оппонентов. Но само понимание этой относительности и этого искуса уже есть защита от него.
И последнее. Языком искусства является метафора, аллегория. Поэтому, как мне кажется, в стремлении «разаллегоризировать» фильм, в стремлении лишить его метафоричности и сделать максимально документально-реалистичным Гибсон многое теряет. Теряет именно как художник. В финальной сцене «Соляриса» Тарковского, когда сын, становясь на колени, припадает к ногам отца, повторяя картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», не меньше евангельского чувства, чем во всем фильме Гибсона. А в «Калине красной» Шукшина, на мой взгляд, намного больше.
...Наверное, было бы интересно попытаться снять фильм по Евангелию, не показывая там ни Христа, ни Богородицу, ни даже апостолов. А снять, так сказать, отраженную реакцию людей. Но это задача уже для другого режиссера.
На заставке кадр из фильма «Страсти Христовы»