Современное авторское (да и не авторское) кино пессимистично. (Вуди Аллен, фон Триер, Дэвид Финчер...) Оно — уже по привычке? — разрушает, угнетает, издевается. Добрые, дающие надежду и говорящие человеку о вере произведения — большая редкость. Поэтому Кшиштоф Занусси в своем творчестве почти одинок. Обращаясь к «проклятым вопросам» о смысле жизни, он говорит о том, что жизнь «как смертельная болезнь» — это бесценный благодатный дар и радость. Надо только уметь это увидеть. У Занусси получается.

Встретиться Занусси предложил в здании Высших режиссерских курсов, после мастер-класса, который он ежегодно проводит для слушателей. Я приехал чуть пораньше, чтобы застать окончание занятия. Меньше всего это напоминало беседу маэстро с начинающими учениками. Гораздо больше — сократовскую маевтику — искусство помогать рождению мысли. Только Занусси работал не с абстрактной мыслью, а с художественными образами: прямо в коридоре студенты снимали учебные фильмы, которые тут же подробно разбирались... Свои замечания Занусси облекал в изысканную форму дружеского совета. А мягкий тон ничуть не задевал самолюбия начинающих режиссеров...
И вот мы сидим в небольшой комнатке тут же, на курсах. Полтора часа беседы, как принято говорить в таких случаях, пролетели незаметно. Признаюсь, что несколько раз хотелось выключить диктофон и просто разговаривать: спорить, не соглашаться, задавать новые вопросы... Когда я, поблагодарив пана Кшиштофа за беседу, уже собрался уходить, он вдруг сказал: «Просто так я Вас не отпущу». И мы еще минут тридцать говорили на разные темы, только теперь вопросы задавал он: о журнале, о жизни в России, о Православии...
А начать интервью я хотел стандартно: с комплимента русскому языку пана Кшиштофа. Наверное догадываясь об этом, он сразу сказал: «Имейте в виду — у меня комсомольский русский. Первый человек, с которым я много общался по-русски на серьезные религиозные темы, был Андрей Тарковский. Нам постоянно не хватало слов и приходилось бежать то к итальянско-русскому, то даже к латинско-русскому словарю. Но Андрей всегда мне льстил, заверяя, что я хорошо говорю по-русски. А потом в его дневниках обнаружилась такая запись: когда к нему приехал сын Андрюша, он написал, что если ребенок останется за границей и не сможет нормально общаться с соотечественниками, то через двадцать лет он будет говорить по-русски как Занусси».
Вот так — на мажорно-самокритичной ноте — началась моя беседа со знаменитым польским режиссером.
Жизнь как смертельная болезнь, или о необходимости веры

— Пан Кшиштоф, не могли бы Вы рассказать нашим читателям о том, кто Ваш любимый поляк и Ваш любимый русский?
— (Смеется) Мне трудно выбрать кого-то одного. Помимо моей жены, которая полячка, и моей мамы, которая тоже полячка... Наверное, сегодня поляку легко было бы сказать, что римский папа. По крайней мере, в общественной жизни. Но были и другие люди, которых я также высоко ценю, хотя они и не так известны... Это люди, которые прошли коммунистические времена и сумели сохранить свою совесть. И вели себя героически в очень трудных условиях. Таких было много. И даже неверующих людей, которые доказали, что можно было не запачкаться.
Что касается России, это не менее трудно. О ныне живущих как-то говорить не принято... Среди тех, кто ушел... Конечно, самым близким был Андрей Тарковский.
Я много раз рассказывал журналистам об одной нашей встрече, но этот рассказ всегда почему-то игнорируют, как будто не хотят замечать. Я был у Тарковского за две недели до его смерти, перед Рождеством. Я ехал в Польшу, поэтому мы так коротко пообщались. Расставаясь, не знали, увидимся еще или нет. И он тогда мне сказал: «Кристоф, если будешь говорить с людьми обо мне, вспоминать меня, напоминай, пожалуйста, людям, что я считал себя человеком грешным». Художник, который уходит из жизни и хочет, чтобы людям напоминали, что он был грешным... Такое случается очень редко. И это очень глубоко.
Я понимаю, что он имел в виду — и в конкретном плане, и в общем. В мире, где все хотят жить в безгрешности, он напоминал: я не исключение, я был грешным человеком. Мне кажется, это очень важное послание для сегодняшнего человека. Если такой великий художник напоминал о своей греховности, хорошо, чтобы мы все всегда себе напоминали, что грешны.
— А как Вы думаете: для современного человека понятие греха что-то значит?
— Боюсь, что для многих уже нет. Сейчас в мире происходят большие и непростые перемены, которым я не очень рад. Потому что, как ни парадоксально, грех и чувство вины — это важный элемент... освобождения человека. Без осознания своей греховности человек не может быть по-настоящему свободным. А люди сегодня этого не понимают: только если мы поймем, что грешны, сможем устремиться от греха к настоящей свободе, почувствовать настоящую свободу. Поймем, что Кто-то нас освободил.
Кроме того, это очень динамичный элемент человеческой жизни. Пока я признаю мой грех, я не теряю надежды, что могу стать лучше. Но если я решил, что я такой, какой есть и лучше не буду, это смертельно. Такой человек — мертвый. Это смерть души. Это против любой динамики. Это признание просто смерти.
Я, конечно, повторяю за римским папой, но есть культура жизни и культура смерти. Христианская культура — это жизнь, культура жизни, а современный мир, как ни странно, создал культуру смерти. Это культура, в которой все проходит навсегда. Ведь время — это элемент смерти. Время тянет нас к концу. Любовь противостоит этому течению времени. Если в жизни есть что-нибудь такое, в чем можно найти опору, мы можем противостоять смерти. Это культура жизни.
Возьмем, к примеру, брак. Что значит, когда муж и жена желают навсегда быть друг с другом? Это значит, что они хотят быть в культуре жизни, а не в культуре смерти. А культура смерти — это согласие на то, что все уничтожается. К сожалению, мир глубоко увяз в этом опасном направлении...
— Вот Вы сейчас заговорили о смерти. И в творчестве Вашем тема смерти часто присутствует. При этом Вы человек очень жизнерадостный, оптимистический. А как Вы думаете: это вообще нормальное сочетание? Как вообще должны в человеке сочетаться память о смерти и жизнелюбие?
— Мы должны радоваться дару жизни. Но — если в нас нет надежды, что есть вечная жизнь, то дар жизни всегда будет горек. Мы не сможем ему радоваться в полной мере — потому что у жизни есть конец.
Современная культура не знает тайны вечности и поэтому боится конца. Боится напоминать человеку, что он смертен. И современный человек от смерти просто уходит, хочет о ней забыть. Я потому с уважением отношусь к атеизму экзистенциалистов, в частности, Альбера Камю, что он от смерти не уходил. Но, не будучи верующим человеком, видел в ней космическую катастрофу. А современная культура, особенно поп-культура (американские или бразильские сериалы и т. д.), если можно так выразиться, одомашнивает смерть. Хочет сделать ее естественной, прирученной, незаметной. Это страшная ложь. Так не может быть. Смерть — это огромный, очень важный и драматический перелом. Есть спасение или нет спасения? Без этого вопроса, без ответа на этот вопрос любой взгляд на жизнь мне кажется неполным, ущербным.
Я ощущаю жизнь как огромный дар. Недавно мне исполнилось 65 лет, хотя я вполне мог и не прожить столько. Уже в детстве я видел вокруг себя смерть. Когда мне было 5 лет, нас бомбили, потом мы попали в концлагерь. В 1944 году нам с мамой удалось удрать. Мы выжили, хотя нас могли убить. Я считаю, что это удивительно, что я остался жив, а других Бог взял с этой земли. И я не принимаю это как что-то само собой разумеющееся — что я жив. Нет. Это уже исключение, дар. И долг.
— В некоторых своих интервью Вы говорите, что человеку, мужчине, важно достичь успеха... С христианской точки зрения успех, как мне кажется, — категория весьма сомнительная, по крайней мере — неоднозначная. Даже опасная.
— Я прекрасно понимаю, что это очень светское слово. И использую его в категориях психологии, а не духовной жизни. Хотя в духовной жизни тоже может быть успех: если человек забудет себя, лишится своего ego. Это глубоко и это успех.
В мирской же жизни, и особенно жизни художника, успех — это некоторое подтверждение правильности выбранного пути. Это помогает. Успешная карьера...
— Но разве карьера не способна помешать духовной жизни?
— Карьера может не пересекаться с духовной жизнью, главное, чтобы она не заслоняла человеку дух, не стала главным. Не думаю, что для Достоевского его литературная карьера была самым важным делом. Она была необходима для его существования. Важна для творчества. Но в его жизни была цель гораздо более серьезная, чем любая карьера и любое литературное признание.
Карьера — это только средство, но не цель. Успех — это тоже не цель. Но он помогает получить подтверждение в правильности выбранного профессионального пути.
Россия — это всегда православие

— Вы часто приезжаете в Россию, хорошо знакомы с ее культурой и традициями. А как Вы думаете: каковы самые распространенные стереотипы — культурные, духовные — о России на Западе? И насколько они верны с Вашей точки зрения?
— Они полностью неверны. Но самое оскорбительное для меня — это недостаток даже самих стереотипов. Люди просто ничего не знают: все кончается на представлениях о русской березке. И еще о балете Моисеева. Россия выглядит как такая «постоянная березка», а настоящего интереса к духовной традиции России я не знаю.
Все это меня огорчает. Я часто вспоминаю слова о том, что у Европы два легких: латинское и византийское. И они должны знать, изучать и дополнять друг друга. Но «латинское легкое» абсолютно не проявляет к этому интереса. Россия же, при всем ограничении возможностей, вызванном историей семидесяти лет, гораздо больше знает про Запад, чем Запад — про Россию.
— Скажите, а в Ватикане тоже распространены подобные стереотипы?
— Смотря у кого. Собственно в Ватикане живет не так много людей, но разница между ними порой огромная. Мне удивительно, что там есть епископы, кардиналы, которые вообще не разбираются в восточно-христианской духовности. Но есть и другие, которые глубоко знают русскую традицию.
— Вы часто приезжаете в Россию и можно предположить, что Вас здесь привлекают прежде всего люди...
— Конечно.
— Но на Западе тоже люди... Они тоже интересны.
— Да, и они меня тоже привлекают... (смеется)
— А в чем разница между россиянами и людьми западной культуры? Чем привлекательны для Вас наши соотечественники?
— Наверное, мне следует рассказать Вам о моем стереотипе, тоже очень неполном. Я в России нахожу продолжение платоновского типа мышления. Я так привык, так меня учили на факультете философии: европейский Запад в интеллектуальном плане в большей степени последовал Аристотелю, а европейский Восток — Платону. Это очень заметно в культуре.
Россия для меня — это всегда Православие. Я не могу отделить одно от другого. Даже коммунистическая Россия не смогла избавиться от Православия. Православие определило отношение к Богу, к личности, к идеалу и реальности, к политическим и социальным институтам, к частной собственности, наконец. И это отношение отлично от западного. (Я думаю, их можно сравнивать, но не стоит говорить, что одно лучше, а другое хуже.)
Объясняя эту разницу для западных людей, я всегда подчеркиваю: то, что они считают абсолютом, в чем Запад считает себя полностью правым, на самом деле относительно, условно. Например, подход к частной собственности: для западного человека она свята, естественна, незыблема. В восточно-христианском мышлении в большей степени подчеркивается, что все принадлежит Богу, а не мне. А это уже лучше. Такой взгляд не так страшен...
Еще я люблю рассказывать такую историю, которая случилась еще в коммунистические времена. Одна моя знакомая была влюблена. Ее любимый человек улетел в Грузию, и вскоре она узнала, что их отношениям грозит распад. Ей надо было срочно лететь в Тбилиси, но билет купить она не могла — пришлось бы ждать как минимум несколько дней: такие перебои тогда не были редкостью. Но она умудрилась прорваться к капитану авиалайнера, кажется, где-то во Внуково, рассказала ему о своей «проблеме любви» и он взял ее без билета. Помню, я спросил у швейцарцев: «А кто из Ваших пилотов Swiss Air взял бы в такой ситуации человека без билета?» Но что важнее: прибыль Swiss Air или любовь? Мне-то понятно, что любовь важнее. Но по закону, конечно, это немыслимо, это страшная вещь: капитан берет пассажира без билета. И это другой подход к жизни.
Иногда мы видим, какой нечеловеческой может быть система жизни, основанная на мысли о святости частной собственности. С другой стороны, конечно, есть моменты, когда это значительно облегчает жизнь общества. Так что, повторяю, надо учиться друг у друга.
Консультор Занусси
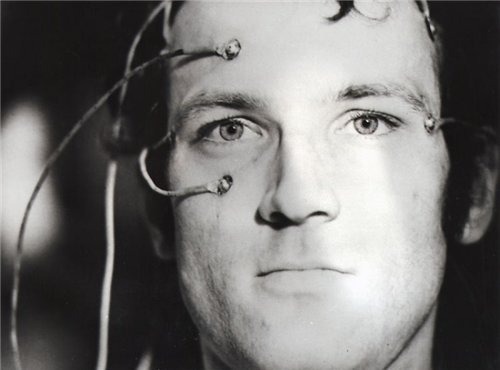
— Вы являетесь консультантом Понтификальной комиссии по делам культуры. Я правильно сказал?
— Да, хотя все немного смешнее. Следуя латинскому языку, меня называют consultor, а не консультант, что в переводе, конечно, значит «консультант», «советник».
Уже десять лет я служу в этой должности. А недавно срок моего пребывания на этом посту продлили еще на пять лет. Таких консультантов назначает Папа. Члены комиссии — епископы. Консульторы — небольшая группа светских экспертов. Мы встречаемся раз или два в год. Обсуждаем проблемы современной культуры во всем мире. Чтобы, с одной стороны, подсказать епископам, какие процессы происходят в культурной жизни, какие новшества появляются, на каких ценностях основана культура, как ее судить. Церковь не может жить вне культуры, поэтому это важно. Чтобы не было того, что епископ не имел понятия, о том, например, что такое постмодернизм и кто его теоретики, и какие произведения искусства принадлежат этому течению. Я борюсь и за то, чтобы они знали, кто такой Тарантино... С другой стороны, конечно, пробуем влиять: и на епископов, и на культуру. Комиссия присуждает свои награды, иногда поддерживает какие-то проявления творчества. Хотя все делается очень несмело.
— Насколько охотно епископы Католической Церкви используют Ваши консультации? Это реально работает?
— Да, реально. Но используют неохотно. (Смеемся вместе). Очень надо нажимать. Очень сильно надо их пугать. Я веду себя очень неприятно, меня там не любят. Но это моя задача, я просто жестко ставлю вопросы епископам и кардиналам: какой роман прочитали, какие картины смотрели, какую музыку слушали... А они как школьники хотят уйти от вопросов. А я нажимаю: «Это Вы мне уже три года тому назад рассказывали. А с этого времени ни одной книжки не прочли?» Может быть, это на них немножко влияет.
Там ведь тоже очень разные попадаются люди. Расскажу Вам трогательную историю. Епископ одной из беднейших стран (какой не скажу, потому что можно будет догадаться, о ком идет речь) подошел ко мне после очередного заседания этой комиссии и сказал, что абсолютно в культуре не разбирается. Он простой человек из деревенской семьи и хочет просить моего совета, какие ему прочитать основные книги по истории культуры. Мне это показалось трогательным. Потом он меня пригласил в свою страну и я там читал лекции... Я заметил, что он пользуется сотовым телефоном. (В отличие от пана Кшиштофа — В. Л.) И очень удивился, какой у него звонок. А он, заметив мое удивление, сказал примерно следующее: «Я знаю, что это странно. Но вот Вы нам говорите, что Моцарт, Бетховен, Чайковский, Гайдн — это великие композиторы. Вершина того, что человечество создало в музыке. И я стесняюсь, чтобы мелодия моего телефона была взята из их произведений. Я выбрал собачий лай. Потому что у меня в деревне, когда кто-то подходил к дому, всегда лаяла собака». После этих слов я понял, что комиссия работает не напрасно. Этот человек показал такое высокое чувство культуры, которое я бы желал всем. Потому что нельзя слушать прекрасную классическую симфонию, соль-минор, скажем, как мелодию в сотовом телефоне. А сегодня в туалетах, простите, звучат Шопен и Чайковский. Это как бросать торт в мусор. Нельзя так делать. Потому что потом эта музыка уже не влияет на человека — если банально звучит в его кармане десятки раз в день.
— За тысячу лет, прошедших с момента раскола на Православие и Католичество, много сказано и написано об отличиях этих двух традиций. Мне сейчас не хотелось бы говорить о догматических или исторических аспектах: они весьма серьезны и требуют специального разговора, не совсем подходящего для формата нашего издания. Но вот что я хотел бы спросить: лично для Вас, не на догматическом, а на культурном и на личном уровнях, в чем сходство и отличие этих традиций? Есть, например, интересная точка зрения, что католичество — это «рождественское» христианство, то есть деятельное, стремящееся изменить мир; а православие — «пасхальное», в большей степени мистическое, направленное прежде всего на спасение души...
— Для меня это все элементы, которые в определенном смысле дополняют друг друга. И я бы хотел, чтобы отличия между православием и католичеством сохранились. В этом и заключается богатство. Я не хочу видеть «унифицированный костел» — традицию, которая бы привела все к общему знаменателю. Я мечтаю, чтобы мы вернулись к состоянию десятого века, когда отличие Востока от Запада было уже огромным, но люди все-таки смотрели друг на друга с интересом и уважением.
У меня есть фильм («Императив» — Ред. ), где главный герой — православный. И где агностик приходит к вере с помощью православного. Картина была награждена на Венецианском фестивале. Это одна из моих самых любимых. Хотя «любимых», наверное, не то слово... Таких картин, которыми я горжусь. Это черно-белый фильм. Как ни странно, не демонстрировавшийся в России. Точнее, только на кинопросмотрах.
В ней рассказывается, как православие, даже не католицизм, а православие, может открыть глаза человеку, который не способен сам найти своих отношений с Богом. Благодаря знакомству со старым сербским профессором и священником он эти отношения находит.
— А почему Вы решили показать это именно на примере православия?
— Мне казалось, что для математика, человека чисто абстрактного мышления православие в определенном смысле является более радикальным. Более экстремальным подходом. И поэтому более понятным...
— Существует такая точка зрения, что христианство, со своим богатейшим контекстом — историческим, философским, богословским — в формат современной культуры не вписывается. Поэтому любые попытки говорить о христианстве языком современной культуры — будь это кино, пресса, телевидение и т. д. — это заведомо профанация.
— Я абсолютно с этим не согласен. Профанация может касаться только святого. А наши попытки говорить о христианстве не святы. Но мы можем рассказывать о жизни верующих людей, о том, как они ищут Бога. Я всю жизнь занимаюсь искусством. Пробую обращаться главным образом к неверующим. Верующие, я думаю, знают все не хуже меня. Конечно, должно быть и искусство для верующих. Но гораздо важнее в этом мире где большинство теряет чувствительность, идти им навстречу и не пугать их языком, которого они не понимают и из-за которого сразу пытаются отбросить веру. Нужно им подсказывать, где их нужды, где их желания могут встретиться с ответом, который дает вера. Но я не стремлюсь давать конкретные советы. Я только подсказываю, где их можно найти. Я не занимаюсь проповедью. В прямом смысле слова. Это надо оставить проповедникам. Но я должен довести человека до Церкви, а уже остальное сделает Церковь сама.
— Правда ли, что Вы высоко оценили фильм Звягинцева «Возвращение»?
— Да, мне многое в этом фильме понравилось. Там появился «миф отца», который современная культура как бы уничтожает. Сегодня число женщин, которое считает, что они должны иметь и воспитывать детей без мужа, огромно. И хотя это практически вполне достижимо, мы забываем, что даже в психологическом плане, неполная семья — это огромная потеря для детей. Это то, чего им будет потом не хватать. А в этом фильме появилась «жажда отца» — что мне кажется очень важным. И я увидел, что на Западе люди на это сильно реагируют.
— Вы упомянули Достоевского. Я знаю, что он вам близок и дорог...
— Близок и чужой. Чужой в том смысле, что мне близок Томас Манн, которого я читаю, как будто это было написано у меня дома. Достоевский же для меня в большой степени экзотичен, если можно так сказать.
Для меня «чужие» его решения ситуаций, его герои. Они ведут себя таким образом, каким я бы никогда не подумал, что можно себя вести. Но в этом и интерес, в этом и привлекательность, экзотика, если хотите.
— Вы считаете, это художественный ход или...
— Нет, это общество, в котором он жил и в котором были такие условия и появились такие люди. У меня князь Мышкин закончил бы совсем по-другому.
— А как?
— Ну... (смеется) Мне кажется, что более оптимистически. В западной культуре можно было бы найти лучшее место — даже такому «крайнему» человеку, как он. Надеюсь. В культуре, где он был бы более свободен, ему, может быть, и нашлось бы место.
Но что всегда остается правдой — это то, как нас всех унижает факт, что среди нас есть нищие. Что есть люди, за которых мы отвечаем, но не умеем, не хотим помочь. И мы никогда не можем быть довольны собой и считать, что мы сделали все.
— Достоевский был достаточно беспощаден к западу вообще и к католицизму в частности...
— То, в чем он ненавидит запад и где критикует католицизм, мне кажется, много правды. Я тоже критикую. Недостатки нашей Церкви — это мы. Достоевский говорит о тех вещах, которые меня касаются. Он прав, хотя, может быть, и слишком обобщает, и даже ошибочно обобщает, как мне кажется. Но эт не важно. Важно другое: чтобы я мог от этой вины освободиться.
Потерянное поколение?

— По многим Вашим высказываниям складывается впечатление, что Вы не опасаетесь «поколения пепси», смотрите на его будущее оптимистически.
— Я думаю, что совсем упущенных поколений нет. Конечно, новая система, капитализм ударил по молодежи особенно сильно. Мне очень повезло, что удалось поработать на Западе — причем задолго до того, как рухнул социализм. Поэтому я ничему не удивлялся, был в принципе ко всему готов. На молодых же пришелся такой удар, что огромная часть этого поколения поверила, что деньги, карьера, материальный успех — это все. И за это им придется заплатить высокую цену.
Молодым стольким вещам пришлось учиться: какие носки к каким сапожкам надевать, какие галстуки носить, какие одеколоны покупать, как маникюр делать и т. д. А потом оказалось, что это еще не все. Что есть еще другое измерение жизни — духовное, — о котором они вообще ничего не знали. И для этого поколения, конечно, очень тяжело найти себя в этом мире. Кто-то потеряется... Но это не потерянное поколение как таковое. А лишь большое число дезориентированных людей. Но временно, ситуация уже меняется к лучшему. Те, кто сегодня входит в жизнь, гораздо лучше в ней разбираются. Уже таких карьер не делается, олигархами сразу не становятся. Так что я на это смотрю спокойно.
Я очень много бываю в польской провинции и нахожу там огромное число довольно интересной, мудрой, если угодно, молодежи. Еще с коммунистического времени я занимаюсь фондом, который помогает одаренным детям, особенно из провинции. Раз в год я делаю им подарок: приглашаю 20 человек, избранных фондом, на несколько дней к себе домой. И всегда пытаюсь дать им возможность познакомиться с интересными людьми. Потому что это важнее всего. Они там по Интернету все найдут, но с людьми стоит знакомиться лично.
Один из людей, с которым я их всегда знакомлю — мой сосед, занимающийся торговлей. У него небольшая лавочка в Варшаве. Зачем я знакомлю его, простого казалось бы торговца, с молодыми гениями из провинции? Дело в том, что у него есть вторая профессия: организатор олимпийских игр для ментально неполноценных детей. Очень непростое занятие. К тому же, не приносящее много денег. Поэтому для жизни он открыл магазинчик. Дела пошли хорошо и он открыл еще два. Но вскоре понял, что времени на любимое занятие не остается. Хотя для жизни хватит и доходов с одной лавочки. Тогда он продал две, оставив себе одну. На жизнь хватит, зато есть время и силы для главной деятельности. Он умеет говорить про свой выбор, поэтому я обязательно знакомлю его с детьми. Показываю как экспонат, чтобы молодые люди поняли: гармония в жизни — это не только успех в каком-то одном деле, в бизнесе. Успех — это гармония. А он складывается всегда из нескольких вещей.
Я не верю, что молодежь сейчас хуже, чем раньше. У них возможности огромные. Конечно, им тяжело жить, потому что у них очень большой выбор. У нас такого не было, поэтому нам было легче.
— Современная молодежь интеллектуально очень раскована, что само по себе неплохо. Но часто за этой раскованностью не стоит больше ничего. Недавно я разговаривал со своим двадцатилетним студентом-четверокурсником. Разговор зашел о шахматах. Я сказал, что Эйнштейн считал шахматы подавляющей интеллект игрой. Студент мгновенно ответил, что не согласен. Меня это поразило. Первая реакция старших поколений наверняка была бы иной: а почему великий Эйнштейн так считал? То есть, у молодежи первая реакция не познавательная, а протестная. К сожалению, я думаю, что это не поверхностная характеристика поколения, а достаточно фундаментальная. Даже сегодня, когда я посидел на Вашем мастер-классе, меня смутило, как себя вели ребята: все время входили-выходили, разговаривали во время Ваших рассказов и т. д. Было не очень приятно это наблюдать. И странно: у них же не каждый день есть возможность общения с Вами.
— Это надо принять как наследие демократии. При демократии людям кажется, что все равны. И что Ваш студент равен Эйнштейну. Когда-нибудь он поймет, что если Эйштейн что-то сказал, надо немного больше задуматься, чем когда он скажет. Но он пока этого не знает... Со студентами так всегда бывает. Лично мне это не мешает. По-другому ведь не бывает: это не поколения характеристика, а просто свойство молодых. И это проходит с возрастом.
Вот, например, в Индии существует традиция гуру. Когда я там выступаю, меня все слушают в молчании. Пока я там — я их гуру. Уеду — будет другой гуру. Там, конечно, приятно читать лекции. А вот на Западе — в Америке или в Европе — я должен льстить студентам, чтобы они заходили и слушали меня. Точнее, я должен сперва доказать свой профессионализм, чтобы они поверили, что я что-то умею. А в России все еще не так страшно: ребята хотя бы приходят на занятия. Мне это уже льстит (смеется): а могли бы вообще не приходить — учатся же за свои деньги.
С этим набором на Высший режиссерских курсах я пока мало знаком. А предыдущий помню очень хорошо. Я традиционно в конце мастер-класса приглашаю их всех ко мне домой. Иногда приезжают: не все, конечно, как правило, человека 4-5. Те, кто приезжал в этом году, на мой взгляд, очень интересные и талантливые ребята.
О Тарковском, Тарантино и духовном риске режиссера
— В одной из энциклопедий я прочел, что после Вашего фильма «Структура кристалла» (1969 г.) за Вами закрепилось, цитирую «амплуа холодного рационалиста, бесстрастного исследователя нравов современной польской интеллигенции, склонного к постановке сложных экзистенциальных проблем». Что Вы можете сказать о такой характеристике?
— Не уверен, что это хороший диагноз. Но если кто хочет повесить на меня такую бирку — пусть вешает. Хотя я более половины картин снял не в Польше, так что не могу сказать, что я постоянно занимаюсь польской интеллигенцией. Это уже не правильно. Также мне кажется, что я сделал несколько картин, которые касаются более эмоций, чувств, чем интеллектуальных проблем. А вообще, может быть и такая характеристика в чем-то правдива. Вообще, не надо смотреть на свои портреты и спрашивать, насколько они на меня похожи. Пусть себе будут. Приятно, что кто-то написал мой портрет. Даже если он неточен.
— Для Вас христианское кино — это кино, которое напрямую связано с какими-то личностями из христианской истории, с какими-то темами или...
— Я бы лучше употреблял термин «конфессиональное кино», «конфессиональная литература». Там показаны священники, святые, монахи и т. д. А, скажем, у Достоевского мировоззрение верующего человека может быть показано даже на примере страшных грешников. Я считаю, что это гораздо более естественно для искусства. Поэтому мне такой подход ближе.
— Тарковский снимал христианское кино?
— Конечно, его кино в огромной степени выражало мысли и чувства, которые совпадают с христианством. Хотя неверующие люди тоже могут снять кино, выражающее христианские мысли. А верующие могут и не снять. По-разному бывает. Я не стремлюсь к тому, чтобы произведение искусства непременно назвать христианским. Эта категория нередко ведет нас в какие-то юрисдикционные, юридические измерения. Никому не дано в этой жизни создать идеальную интерпретацию Евангелия. Поэтому наша жизнь всегда несовершенна. И произведение искусства тоже будет несовершенным. Главное — чтобы основная линия, направление, видение мира совпадали с евангельским. А ведь они могут совсем не совпадать. Безусловно, Вуди Ален — это нехристианский автор. В его интерпретации мир черный, такой, в котором нет Спасителя...
— А Тарантино, которого Вы упомянули?
— Тарантино для меня вообще не очень важный художник. Это просто человек, который... Человек развала. А развал — это не надолго. Он издевается над тем, чем другие пугают, над чем другие плачут. Можно, конечно, над этим посмеяться — один раз. Посмотреть один фильм. Второй уже не хочется.
— Нет ли у Вас ощущения, что после отъезда Тарковского на Запад в нем что-то надломилось. Жертвенность героев в фильмах российского периода, и «Жертвоприношение», где главный герой изменяет своей жене с ведьмой ради спасения человечества, кажется искусственной, что ли... Это совсем другой Тарковский, в другую сторону ушедший от христианства...
— Нет, для меня лично все наоборот. И две его последние картины, снятые на Западе, мне нравятся больше всех. Может быть потому, что они мне более понятны. Я видел его сознательный путь к христианству. Ведь его русские картины были сняты во времена, когда он в Православии не очень разбирался, что-то только интуитивно чувствовал. По сравнению, скажем, с Андреем Смирновым, который глубоко знает христианство, который много читал и богословски образован. Он сейчас мало творит, но это один из тех моих коллег, встречаясь с которым я понимаю, что передо мной христианин.
Мне кажется, что Тарковский «дозрел» именно на Западе. В его предыдущих картинах можно увидеть языческие мотивы, в том же «Зеркале», например. А последние фильмы уже прямо относятся к христианству. Конечно, поступки его героев не всегда совпадают с евангельскими. А поступки героев Достоевского? Возьмите «Преступление и наказание»! Разве это примерные поступки? Важно то, как он к ним относится, как он их судит. Чего он ищет. И это уже для меня более зрелое христианство.
— Вам известно о споре, который произошел между Тарковским и Лемом вокруг фильма «Солярис»? Лем считал, что Тарковский навязывал его произведению «достоевщину». А Лем хотел писать о тех проблемах, с которыми столкнется человек в космосе, о реальном освоении космического пространства. Таковский же все свел к духовным исканиям. Как Вы считаете, прав ли был Лем, отказавшись признать фильм своим?
— Я не самый большой поклонник этой картины, и совсем не поклонник этого романа. И Лема вообще.
Лем — великолепный эссеист. Но как романист он мне совсем не интересен. Никогда фантастика не считалась высокой литературой. И ему не удалось изменить ситуацию... А поскольку он человек глубоко атеистический, то его интуиции разошлись с Тарковским. Мне гораздо ближе интерпретация Тарковского.
— С советских времен нашим зрителям дорог «Знахарь» Ежи Гофмана. Не думаю, что это какое-то очень глубокое кино: оно простое, незамысловатое, в чем-то даже примитивное. Но при этом очень доброе и не «мыльное»... А как к этому фильму относятся в Польше?
— «Знахарь» снят на основе романа, который для нас является классикой кича. Признаться в Польше, что человек любит этот роман — значит практически признаться в дурном вкусе. Там есть издевка. И Гофман тоже издевается над этой литературой. Но доброжелательно. Вы правы — это добрый фильм. Хотя это такая, знаете, немножко фальшивая доброжелательность. Но я с улыбкой смотрю на эту картину — не всерьез. А желания там чистые, хорошие.
— Вы очень много говорите о вкусе. Мне кажется, это очень важный момент. А где грань: дурной вкус и вред, дурной вкус и грех. Где граница между ними?
— Это очень тонкий и постоянно встающий вопрос. Нужны ли для спасения культура и вкус? С одной стороны, были даже святые, вкус которых нельзя назвать идеальным. С другой, если красота, правда и добро связаны между собой, то дурной вкус, кич — это все-таки снижение ценностей. Это дешевка, банальность. Нечто когда-то сильно влиявшее на культуру с течением времени превращается в свою карикатуру. Это карикатура красоты. Повторяю, бывали монахи и святые, у которых вкус был примитивный. Но они не увлекались произведениями искусства. Они, если можно так сказать, увлекались любовью к Богу. Так что это не такой великий грех. Но, безусловно, недостаток.
Меня, например, очень раздражает в современном костеле музыка — народная, скажем так. Но народная сегодня — это поп-музыка. Я на богослужения с такой музыкой стараюсь не попадать — мне это очень мешает молиться. И если в Африке я попадаю на христианское богослужение с танцами и проч. — это тоже не мой способ выражения веры. Но я не могу сказать, что это плохо — для них. Это их язык и их вкус. Я здесь стараюсь быть осторожным в оценках. Сегодня так мало людей верит, еще выгнать тех, у кого дурной вкус... Это было бы ошибкой.
— Вы когда-нибудь снимали рекламу?
— Здесь я должен рассказать вам одну историю. После войны мы жили очень бедно. Вообще, большая часть моей жизни прошла в бедности. Я это особенно чувствовал, так как был из очень богатой семьи. Жить в нищете с воспоминанием потерянного богатства хуже, чем просто быть бедным.
Но я всю жизнь отказывался от съемок. Даже когда у меня не было денег и на Западе мне предлагали сделать рекламу. Анонимно, в чужой стране — никто бы даже не узнал, что это сделал молодой режиссер из Польши. Я отказывался. И этим горжусь.
Прошла огромная часть жизни, и вот не так давно и совсем неожиданно ко мне обратились из Голландии с предложением снять рекламный ролик. Нейтральный: промышленные ковры. Глупость, конечно. Я сказал моему заместителю: «Даже не соединяйте меня, разговора не будет. Я когда был бедным не делал, а сейчас и подавно не буду». Но мой заместитель всерьез стал возражать: «Почему Вы отказываетесь? Я заметил, что Вы всегда читаете в газетах объявления с просьбами о помощи: люди собирают деньги на дорогие операции, на учебу и т. д. Вы можете снять ролик и на вырученные деньги спасти 10, 20 человек. Дать им денег на операции. Почему Вы считаете, что это недостойно?»
Меня это поразило: а вдруг он прав. Я стал колебаться, не зная, как мне поступить. И обратился за советом к другу, польскому епископу — замечательному человеку. К сожалению, его уже нет с нами... Он мне ответил так: «Сделайте этот ролик. Потом возьмите половину денег и поезжайте с женой в отпуск — куда-нибудь, где Вы никогда не были. А половину денег отдайте людям». Я возразил абсолютно инстинктивно: «Если я уж унижусь до съемок рекламы, то отдам все деньги». На что он сказал: «Все — это нехорошо. Невозможно, чтобы Вас потом гордыня не обуяла».
Но ролик я так и не снял. Все сложилось промыслительно... Я согласился на разговор с голландцами. Директор фирмы собрался приехать ко мне в Польшу. Незадолго до этого он купил себе в Амстердаме новый «Порш» и очень радовался, что поедет через Германию, где нет ограничения скорости... Но по дороге попал в автокатастрофу.
А потом уже никто ко мне с серьезными предложениями на эту тему не обращался.
— Искусство вообще сопряжено с большим риском. А в чем, на Ваш взгляд, самый большой духовный риск режиссера?
— Мне кажется, что первый грех, в который мы очень легко впадаем, это гордыня. Вера в то, что мы сами — я, человек — являемся источником красоты. Я забываю, что я — только посредник. Слепой и несовершенный, через которого какой-то там маленький процент идеала проходит. Все-таки человек постоянно думает, что это все от него. А надо себя забыть, чтобы быть хорошим художником.
— Вы считаете, что это важно не только для духовного внутреннего мира, но и для того, чтобы быть хорошим художником?
— Чтобы быть хорошим инструментом, надо забыть себя...
— По Вашей логике получается, что человек неверующий не может создать гениальное произведение искусства?
— Нет, думаю, что может. Что значит неверующий? Человек, который чувствует любовь к добру, к красоте, он уже верующий. Просто он этого еще не знает. Но если он видит, что есть что-то выше его, он уже верующий — в каком-то смысле. Конечно, это только начало пути. Но все же...








