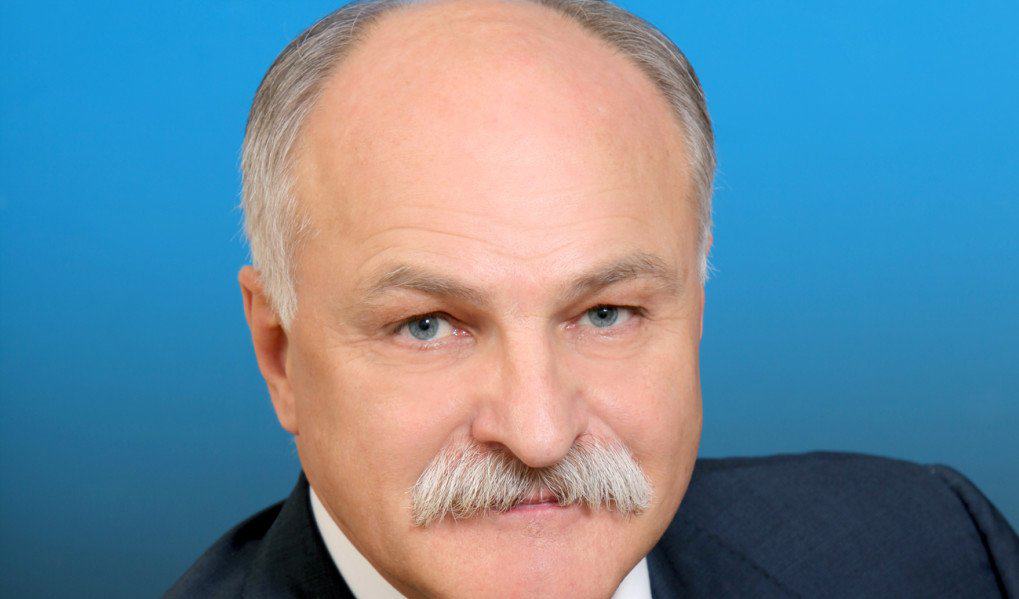В настоящее время — генеральный продюсер телеканала «Россия».
Продюсер фильмов «Мы из будущего» (2007 год), «Ванечка» (2007 год), «Русская игра» (2007 год), «Война и мир» (2007 год, сериал), «Остров» (2006 год), «В круге первом» (2005 год, сериал) и многих других. Зона свободного интеллектуального анализа
— Сергей Леонидович, сегодня со словами «молодежное кино» ассоциируется что-то легкое, даже легковесное — вроде «Американского пирога». «Мы из будущего» — фильм, безусловно, серьезный — по содержанию, и без сомнения, молодежный — по форме и языку. С какими сложностями столкнулись его авторы в поиске этого языка?
— Работая над фильмом, мы думали только об одном: как рассказать эту историю предельно просто и увлекательно.
Мне кажется, нам это удалось. Фильм хорошо приняли, его много обсуждали, спорили. Ну, а потом случилось то, что случилось. Его назначили на должность военно-патриотического воспитателя. Причем одни отнеслись к этому факту с восторгом — появилась счастливая возможность говорить с молодежью на понятном для них языке. Другие — с нескрываевым раздражением, усмотрев в этом угрозу возвращения совковой идеологии.
— Вы впервые столкнулись с таким, скажем так, сложным восприятием?
— Нет, впервые столкнулся — и еще более остро — на фильме Лунгина «Остров». Там вообще было очень много неизвестного: неизвестные герои, неизвестный сюжет... И по замыслу фильм — совершенно оригинальный — не с точки зрения рассказа, он-то как раз очень простой, — а исходя из внутренней точки отсчета и главного посыла. А когда фильм состоялся, и произошла первая встреча со зрителями и критиками, и фильм начали обсуждать, — вдруг оказалось, что он снят чуть ли не по заказу Патриархии, что для нас это некий программный документ, утверждающий приоритет духовных ценностей.
— То есть ничего этого не планировалось?
— Конечно, нет. Я об этом потому и говорю так подробно, что вижу здесь, помимо положительного воздействия «Острова», о котором как раз уже много говорено, еще и колоссальную проблему современного общественного сознания: чудовищную, иррациональную потребность в идеологических конструкциях, которые бы, в качестве особого фермента, склеивали людей в единое целое...
— А что в этом плохого?
— С одной стороны, ничего. Осознавать себя (нацию, народ и проч.) как единое целое — естественная потребность любого общества. С другой стороны, идеология — вещь коварная. Она может нивелировать все, что было создано. Идеологизированное «общественное существо» сразу сжирает творчество, вставляя произведение искусства в строй, превращая его в инструмент — воспитания, просвещения... И тогда исчезает художественная и смысловая уникальность, которая, собственно, и породила конкретный фильм, спектакль, книгу.
— Подождите, подождите. То есть Вы хотите сказать, что, делая «Остров», его создатели совершенно не думали ни о каких духовно-просветительских функциях и духовно-православном содержании, а потом, после его выхода на экраны, начинается дискуссия: православный — неправославный… И эта дискуссия все убивает? Я правильно Вас понял? Или сильно упростил?
— В принципе, поняли правильно. Когда зритель — душой и сердцем — проживает этот фильм в кинотеатре или перед экраном телевизора, над ним не довлеют никакие идеологические клише. А когда он покидает зал и для него начинается то, что я называю «вторая жизнь фильма»: зритель начинает сам себе объяснять, что он только что посмотрел. И здесь нередко возникают те идеологические клише, которые подчиняют себе свободное чувство и восприятие.
— Но ведь рефлексия, о которой Вы говорите, — это процесс естественный, неизбежный. В чем же опасность?
— Поймите, я не против дискуссий, рефлексии. Но если после «Острова» человек зациклен на том, чтобы ответить себе на вопрос: «православный» это фильм или нет, значит, он теряет и фильм, и, честно говоря, мало что прибавляет в понимании Православия.
А проблему я вижу в том, что осмысление произведения искусства сегодня зачастую несвободно от идеологических штампов, в соответствии с которыми человек должен сразу уложить произведение искусства в прокрустово ложе «правильной» оценки: православный — неправославный, молодежный — немолодежный, консервативный — либеральный и так далее.
Это тупиковое состояние современной культуры, которая практически лишила себя зоны свободного интеллектуального анализа. Между непосредственным восприятием фильма и его общественным осмыслением практически отсутствует очень важный промежуточный момент осознания фильма, скажем так, в контексте глобальных ценностных позиций. Например, фильм «Остров» — это фильм о том, как современный человек соотносит себя с Богом, как он воспринимает грех, покаяние... А говорить о том, «правильный» ли это православный фильм или неправильный, означает, на мой взгляд, уплощать и выхолащивать его идею. Не надо догматизировать искусство, для этого есть догматическое богословие.
Так и с фильмом «Мы из будущего». Я мог бы сейчас легко занять «правильную» позицию и долго рассказывать Вам, как мы делали хорошее молодежное кино, искали язык, чтобы донести до нашей молодежи важные идеи, как просчитывали результат, искали и нашли мораль и так далее. То есть мог бы изобразить такую идеологическую кальку, по которой мы делали правильное кино. И сделали — получился фильм-событие.
— А разве не так?
— Не так, потому что фильм-событие нельзя сделать по идеологической кальке. Напротив, в противостоянии. Ведь что такое «Мы из будущего»? Потрясающий эксперимент над собой. Личное испытание, личное приключение. Возможность сбросить с себя этот идеологический хлам. Пережить самому, почувствовать горечь победы. Знаете, какая фраза пробивает в фильме сильнее всего зрителя на слезу? Реплика старшины, когда он узнает о конце войны в 45-м: «Неужели сдюжим?»
— Вспоминается Честертон, который говорил, что плохая книга содержит в себе мораль, а хорошая есть мораль сама по себе.
— Конечно, я понимаю, что любой фильм, как и любой текст, существует только в интерпретации. Что она неизбежна и обязательна. Но мне очень жаль, что сегодня эта интерпретация связана не с попыткой прочитать глубинные смыслы фильма или книги, а с какой-то навязчивой необходимостью вписать произведение в существующие «штампы идентичности».
Простите, повторюсь, в нашей интеллектуальной жизни, в такой области, как критика отсутствует пространство свободного, не идеологизированного анализа. Это относится и к телевидению, и к кино, и к литературной критике... Человек не может позволить себе роскошь мыслить неторопливо, последовательно и до конца. Этот тяжелый труд заменяется неким интеллектуальным ускорителем, набором клише, которые позволяют очень быстро «войти в тему» и очень быстро выйти из нее — с простыми и жесткими оценками.
Родовое проклятие русского кинематографа
— Сергей Леонидович, Вы говорили об оригинальности «Острова». А в чем она заключается для Вас? Есть ли Вам что добавить к тому, что уже говорили об «Острове» — и Вы в том числе?
— Мне кажется, в море оценок и суждений самое главное почти не звучало. «Остров» — это принципиально новое явление не только для отечественного кино, но для всей отечественной культуры — в том смысле, что он перешагнул границу, к которой раньше в лучшем случае лишь подходили, а чаще всего — вообще двигались в обратном направлении.
Отечественный кинематограф жил в состоянии тотального безбожия; и это не было придумано Троцким и его веселой компанией, которые взяли и изнасиловали русский интеллектуальный космос... Нет, это давняя позиция русской интеллигенции, делавшая невозможным создание произведения, в котором основным его посылом была бы мысль о том, что мир создан Богом. И плоская атеистическая агитка, и тончайшая, невероятная по сложности и интеллектуальным затратам картина Тарковского «Сталкер» — все равно в основе своей находятся «по ту сторону бытия», в инобытии. Картина Паши Лунгина в этом смысле, абсолютно уникальна, потому что она начинается с внутреннего тезиса (не внешнего, а внутреннего) — Бог есть.
— Позвольте, но за последние годы мы уже почти привыкли к тому, что вся русская литература, включая даже советскую в ее лучших проявлениях, это евангельская рефлексия в художественной форме. В каком-то смысле то же можно сказать и о кино, включая достойнейшие образцы советского кинематографа (например, «Неоконченная пьеса для механического пианино» Н. С. Михалкова или тот же «Сталкер»). Разве они не христианские — именно по своему внутреннему посылу?
— Понимаете, в чем дело... Существует некая граница. Человек, который находится на линии горизонта, может прожить и выразить то состояние онтологической пустоты, которое потрясающе описал классик: «духовной жаждою томим». Этот глагол «томим» и распечатывает, декодирует художественную идеологию произведений русской литературы и советского кинематографа, о которых Вы говорите. Это состояние, в котором человек признается: дышать нечем, и я вынужден жить так; хотя хочу жить совсем по-другому... Эту пустоту, эту нехватку бытия и ощущают чеховские персонажи известного михалковского фильма. Они, как и большинство чеховских персонажей, находятся в ситуации чудовищного духовного коллапса, тупика, но не готовы признаться в этом и подменяют истинную духовную жизнь эрзац-христианством. «Человек должен работать», «в поте своего лица»... А дальше там в фильме почти Евангелие идет: «Любовь — это то, на чем основаны человеческие отношения; если нет любви — нет жизни»... Все вроде бы правильно, но стоит за этим только одно — невозможность верить. Таково, если хотите, родовое проклятие и русской литературы, а потом и русского кинематографа.
Все картины Тарковского можно описать одной этой пушкинской фразой. Я был поражен, когда прочел в дневниках Тарковского: «Я хочу делать „Пикник на обочине“, потому что это первая легальная возможность прикосновения к трансцендентному». Оцените! Эта фраза дорогого стоит!
Так что же такое это прикосновение к трансцендентному?
В драматургию фильма очень тонко вплетен библейский сюжет Преображения. Три главных героя — Ученый, Писатель и Сталкер отправляются в «зону» на встречу с чудом. Это их «Фавор». И похожи они на учеников Христа. Все время хотят спать. Но не спят и не бодрствуют, как того требовал учитель, а дремлют. Как бы бредят наяву. Да, еще одна важная деталь — они все время говорят. В своих язвительных беседах они оперируют целыми культурными хрестоматиями, но ничего не могут сказать о собственной душе. И так на мгновение, они застывают в позах поверженных учеников канонической композиции знаменитой иконы.
Но чудо Преображения не случается. Его заменяет чудо телекинеза — девочка, которая взглядом двигает стакан на столе.
Какое невыразимое отчаяние! Какая хрупкая надежда! Какой измученный метафорами и умолчаниями язык! Но можно ли его отнести к тому, что вы так смело назвали «евангельскими рефлексиями»? Не знаю… Не уверен…
— А «Остров» — это начало нового движения?
— Нет, потому что после того, как обретение веры состоялось, движение уже невозможно. К вере можно двигаться — разными путями, быстрее или медленнее, подходить ближе или удаляться… Но когда ты перешел горизонт и вера стала реальностью, начинается новая жизнь. Тогда становится понятно, что такое грех, покаяние и так далее. Принципиально меняется ландшафт, если угодно. Поймите, я сейчас говорю не о художественных достоинствах и даже не о глубине экзистенциального переживания, в которой Тарковскому ну никак не откажешь. Просто Тарковский и Лунгин находятся в абсолютно разных пространствах. Они говорят на разных языках.
— Спрошу по-другому: для кино фильм Лунгина — это единичный факт или новая страница истории?
— Это, как Вы сказали, единичный факт, но которых должно быть много. Правда, они никогда не выстроятся в школу, в направление, скажем, «православного кино». Этот опыт невозможно тиражировать. Ведь «Остров» снят вне традиции — и кино, и — шире — культуры. Если угодно, это вещь глубоко «бескультурная». Не антикультурная, не вызов, но чистая вера, которая преодолевает границы культурного (а культура, прежде всего, и ставит границы). Можно, конечно, назвать жанр «Жития». Но только с добавлением «грешника». Паша Лунгин, наверное, на меня обидится за эти слова, но все своеобразие и величие «Острова» выражены прежде всего в том, как Мамонов молится. И за счет этого получается фильм с глубочайшей внутренней (не внешней) традицией — невидимой и незримой, которая вся растворена в молитве. Это уникальное явление, потому что художественно «пристраиваться» к нему можно сколько угодно, а выразить это состояние веры, скорби и покаяния можно — к сожалению или к счастью — только одним способом — молитвой: подлинной, ортодоксальной...
— А фильмы Звягинцева — они где? По какую сторону горизонта?
— Фильмы Звягинцева — это потрясающе невозможная прививка: соединение замечательной европейской традиции экзистенциального фильма и советского кинематографа — присущей ему духовной жажды, которой так не хватает современному европейскому кино. И в этом смысле, конечно, он наследует Тарковскому. И точно так же стоит перед горизонтом. Есть и другой удивительный феномен — Сокуров. На его глазах умирал кинематограф, рушились страны, а он с какой-то такой стоической настырностью и упрямством воссоздавал этот мир заново в своих фильмах. И вот все уже умерло, а он — продолжает жить и творить.
— Давайте все же вернемся к «Острову». Как продюсер Вы рассчитывали на подробный успех, я имею в виду коммерческий?
— Давайте вернемся к началу нашего разговора. И если я сейчас скажу Вам, что у нас изначально были точные просчеты коммерческого успеха картины, значит, все, что я говорил до этого, теряет смысл.
— А как было на самом деле?
— А на самом деле вот здесь на Вашем месте сидел Лунгин, который принес сценарий какого-то юноши из ВГИКа. Я взял, держал пару недель, потом мне стало стыдно, вечером открыл и в три часа ночи закрыл, дождался утра, позвонил Паше: «Запускаем». Помню еще, что спросил у него: «А кто будет смотреть этот фильм?» И он сказал потрясающую фразу: «Сережа, это невыносимо, но все продается». Она меня просто сшибла, мне показалось, что из кабинета только что вышел князь Мышкин...Сюжет этой картины просто кричал об обратном — о том, что есть вещи, которые не продаются. А потом я пошел к своим руководителям, коллегам и единомышленникам Златопольскому и Добродееву, и они сказали: «Снимай!» И никто тогда никакого коммерческого успеха не просчитывал...
— Но потом все равно началось то, что Вы сами сегодня назвали «второй жизнью» фильма. Как продвигать, как рекламировать? Были здесь какие-то ограничения?
— Конечно, было рассмотрено несколько подходов. И лично моя задача состояла в том, чтобы не допустить в визуальном ряде такого, знаете, «светского мракобесия»: сверлящий взгляд Мамонова пронизывает пространство, женщины, которые с ужасом смотрят на старца, а он такой «немного Распутин»: «Сниму порчу!..» Конечно, такие варианты были, но мы их отмели.
Никогда не забуду, как при входе в знаменитый Венецианский дворец висели два гигантских борда: на одном была «Королева», на втором — «Остров». Обе рекламы были безупречны с точки зрения дизайна, но отличались кардинально по внутреннему посылу. Все было достойно. И поверьте — говорю это, нисколько не кокетничая — такие картины в каком-то смысле снимаются сами. Наверное, это дерзкая мысль, но я в этом вижу Промысел Божий. Поэтому для меня все разговоры о просчетах, подсчетах и промоушене — абсолютно второстепенны.
Продолжение следует
Фото Сергея Тетерина
Фото анонса cdn.static3.rtr-vesti.ru