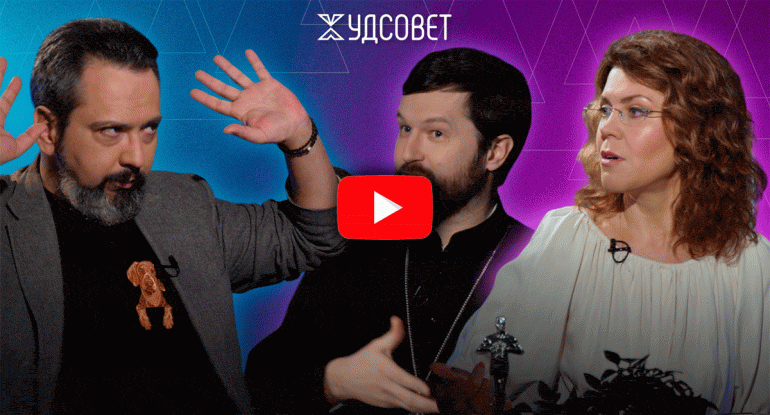Лауреат множества призов отечественных и международных кинофестивалей.
Заслуженный деятель искусств России.
Астрид Линдгрен спросила…
— Когда мы начинали работу над картиной «Мио, мой Мио» по замечательной сказке Астрид Линдгрен, великая писательница пригласила нас к себе. Помню, как прибежал взволнованный продюсер: «Володя, мы идем к Астрид Линдгрен. Домой! У нее ни один журналист ни разу не бывал, она вообще никого у себя не принимает, даже премьер-министру отказала! И почему-то она зовет тебя. Не волнуйся, я пойду с тобой». Но я, конечно, разволновался. Это была величайшая честь и неожиданность. Съемки тогда еще не начались, и я был уверен, что она попросит: «Рассказывай, какое кино ты будешь снимать, каким видишь наш фильм». А я еще никак его не видел… Я только входил в материал, только начинал ориентироваться. Фантазировать на ходу — глупо. Не понимая, что делать, я схватил гжельский чайник в коробке и пошел в гости…
| Астрид Линдгрен открыла дверь, мы поздоровались, я протянул ей чайник. «Вот из него и будем пить чай», — одобрила она. Пошли на кухню, заварили чай, перешли в ее кабинет. Думаю: вот, сейчас она задаст свой вопрос... И в этот момент Астрид Линдгрен действительно спросила: «Володя, со скольких лет ты себя помнишь?»
Ничего подобного я не ожидал, невпопад ответил: «Лет с четырех». Тогда она попросила рассказать об этом воспоминании. |
 |
…и я рассказал
— …Это был переезд из Свердловска, где жила наша семья, в Москву. Нас было тогда четверо детей (потом еще сестренка родилась), отец — видный государственный работник, а мама до нашего появления была оперной певицей, но потом всю свою жизнь отдала нам, своим детям. И вот сразу после войны отца вдруг забрали в Москву. Мы ничего не знали о его судьбе. Посадили? Или «перевели по службе»? Мама ждала-ждала вестей, а потом разом все распродала и отправилась в Москву — с нами, четырьмя детьми. Шел 1947 год. Мы ехали в абсолютную неизвестность...
Добирались до столицы две недели, в товарном вагоне. Кроме нас мама взяла только корову — чтобы кормить нас в пути молоком, собаку лайку и пианино, без которого не могла жить. Когда поезд стоял, мама играла ноктюрны Шопена. В товарном вагоне… Старший брат бегал за кипятком на вокзал, где стояли «титаны».
На каждой станции мы неизменно спрашивали: «Мама, это уже Москва?» Но она все время отвечала: «Нет, это Ижевск; нет, это Казань; нет, это Горький». Нас постоянно перецепляли от одного состава к другому, а по встречным путям уже везли заключенных — 47-й год…
И вот однажды мама сказала нам: «Москва!». Мы выскочили из вагона и видим: черный перрон, грязь, междупутье… «Мама, неужели это — Москва?» Но это были Мытищи, а сама Москва, Кремль — не здесь, но уже рядом. На таком вот междупутье, в том же товарном вагоне мы и ждали отца. День прошел, другой… Мы не знали, что с ним, придет ли. На третьи сутки, рано утром над путями вдруг разнеслось: «Ни-на! Ни-и-на!» Это был голос отца. Мама — в одно мгновение — вскочила и выпорхнула из вагона, хотя расстояние до земли было полтора метра, а поперек выхода — доска-перекладина, чтобы мы, дети, могли опереться на нее и смотреть наружу, не падая. Но она проскользнула под эту доску, выскочила на междупутье и помчалась к отцу. А мы все рванули к доске — смотреть… Эту встречу я запомнил на всю жизнь, и до сих пор, когда вспоминаю, в горле пересыхает…
Я рассказал это Астрид Линдгрен, она стала расспрашивать дальше — так два с половиной часа я говорил о себе: как пошел в школу, как в армии служил, как пришел в кино. В конце рассказа она подняла меня, обняла и сказала: «Ты хорошее кино снимешь».
И я подумал: какая гениальная женщина! Она ведь не попросила рассказать о моих «проектах», чтобы услышать красивые слова… Она спросила о том, что зафиксировала моя память, она узнала, как я эмоционально открыт миру. И мои воспоминания рассказали ей, кто я есть на самом деле. Это было как чудо.
Михалковы, Тарковский, Румнев
— Какие моменты в своей жизни Вы считаете переломными? Кто повлиял на Вас?
— В моей жизни было много «случайностей», как это принято называть. Когда мы переехали с Урала в Москву, мы поселились на одной лестничной клетке с семьей Михалковых. В детстве мы были с Никитой Сергеевичем как братья: дружили, много общались, я жил у них на даче... И конечно, через него я узнал искусство, прежде всего — кино. Через их семью для меня приоткрылся совершенно иной мир, другая жизнь.
По настоянию отца я поступил в технический вуз, проучился там два года с большим трудом. В то время был в моде танец твист, я его очень любил. На какой-то вечеринке, где мы танцевали, меня увидели Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский, друживший с Никитиным братом. Они сказали: «Ты замечательно двигаешься, тебе нужно в Театр пантомимы». Я переспросил: «В театр… чего?» Слово пантомима было для меня совершенно новым. А это был очень модный театр, основанный на выпуске двух курсов ВГИКа — Козинцева и Ромма. Я пришел туда, был смотр, и меня взяли в труппу…
Как сказать об этом отцу? Я начал издалека: что думаю переводиться, что я, наверное, гуманитарий, — отец не слушал. Он сказал: «Давай договоримся. В жизни всякое может быть. Вот получи диплом, и тогда — хоть в клоуны». Я понял, что тянуть нечего, и сознался: «Пап, я, наверное, уйду из института… Меня взяли в театр». Это был ужас! Он говорил: «Володя, ты совершаешь величайшую ошибку. В этой среде у меня нет и не будет связей, я ничем не смогу тебе помочь. Этот выбор ты делаешь сейчас, но — навсегда». Я сказал, что уже выбрал… Отец принял мое решение, но и своему слову был верен. Он мог освободить меня от армии, сделать «белый билет» — но не сделал этого. И я три года отслужил в особо секретных войсках, сопровождал «изделия»*. Театр пантомимы очень многое мне дал. Нашим наставником был Александр Александрович Румнев, тонкий, образованнейший, высоких художественных ценностей человек. Моя этическая программа — что можно в искусстве и что запрещено, чего нельзя позволять себе даже во имя самых благородных целей, — была заложена в Театре пантомимы под его влиянием.
А еще многое пришло от мамы. Послевоенные годы, трудности, многодетная семья — и мама, которая отдала себя нам. Папа все-таки мало появлялся в нашей жизни: он в те годы у себя в кабинете «строил социализм», часто работал ночами, и его отсутствие стало для нас нормой. А вот мама — ее образ, ее дыхание, — думаю, есть во всех моих картинах.
Конечно, влияют и друзья. Не могу сказать, что их у меня очень много, но теми, что есть, — дорожу бесконечно. Мы все чувствуем взаимовлияние друг друга.
Особое поколение
— В каком-то смысле наше поколение — особое. Мы пережили иллюзию дарованной свободы. Это была оттепель 60-х: Политехнический, бессонные ночи, разговоры… Всем нам искренне казалось, что что-то сдвинулось, что еще пять, семь, десять лет — и страна заживет логичной, правильной, нормальной жизнью. А страна в результате въехала в пятнадцатилетний маразм, когда каждый защищался как мог. Кто-то открыто бунтовал и хотел все сокрушить, кто-то уходил в подпольное диссидентство… Не могу сказать, что у меня ярко выражены бойцовские качества, я больше в смирении живу и пытаюсь в любой ситуации найти то позитивное, что можно сделать. Тем не менее, время управляло моим сознанием, мыслями. Я жил в тихом противоборстве и в горечи обид, было много несостоявшегося. Было жаль талантливых людей... Среди моих друзей кто-то спился, кто-то уехал — и эти потери были очень тяжелы. Конечно, о любом человеке можно сказать: «Он сам виноват». Но ведь это неправда. Виноваты были и время, и обстоятельства — у тебя как будто коврик выдергивали из-под ног.
— Но Вы-то сами всегда были «на коне», разве нет?
— Нет, конечно. Помню, как после бурной общественной жизни, съемок, председательства в Союзе кинематографистов в начале 90-х вдруг наступила безработица. Я тогда жил с ощущением, что меня случайно выключили из розетки: кто-то шел себе, шел — и зацепил ногой мой шнур, вилка выпала и меня обесточили. Я был уверен, что это случайность, что сейчас кто-то опять пройдет мимо, посмотрит и скажет: «Да это ведь шнур Грамматикова! Давайте включим!», — но время шло, и ничто не менялось. Вдруг, в одночасье, я стал никому не нужен, никто ничего мне не предлагает и никуда не зовет. Что-то нужно делать, но что? Я умею снимать кино, работать с детьми, умею чинить «Жигули»… Мы с другом, замечательным, известным артистом, который тоже сидел без работы, даже собирались в те годы организовать техническую станцию по ремонту автомобилей. Потом решили булочную открыть, потом — сырный завод. Я серьезнейшим образом изучил вопрос: какие бывают сорта — мягкие и твердые, какие бывают технологии приготовления, какое необходимо оборудование, какие кредиты… И знаете, почему все лопнуло? В деревне, где жил мой друг и где мы собирались развернуть производство, не оказалось молока! В окрестностях на всех бабулек осталось две коровы… Глухое было время.
Выбор веры
— В храм Вы в те годы пришли?
— Нет, раньше — в 70-е. До этого, в эпохальные 60-е, жизнь казалась праздником, в котором все будет хорошо, все двери будут открыты, все ходы расчищены. Потом стало ясно, что это обман. У меня было три близких друга, которым я мог сказать все. Но иногда этого не хватало. Жалея меня, они порой отвечали мне слишком мягко, а требовался жесткий ответ. Не хватало человека, который, обладая мудростью, внутренним покоем, мог бы подсказать мне направление — куда двигаться. Я не искал быстрых и легких путей, понимал, что таких не бывает. Но подсказка была необходима. И тут я познакомился с одним священником. Он приоткрыл мне дверцу в мир Церкви, в мир, где живут со Христом. Толком я ничего об этом мире не знал, и сначала все в нем казалось универсальным: храмы есть везде, в каждом — настоятель, бабушки, которые гоняют вновь пришедших… Потом я понял, что храмы бывают разные, что батюшки тоже разные, и найти своего духовника не так-то просто. Я не сразу пришел в обитель, где почувствовал себя «своим», и я рад, что это наконец случилось.
— Не страшно было в 70-е годы ходить в храм? СССР все-таки…
— Нет, что вы! В те годы уже не страшно было. Потому что все уже знали, что члены Политбюро тайно крестят своих детей. Есть на Белорусской дороге станция, близ которой два дачных поселка: один принадлежал Совмину, другой — ЦК КПСС. Рядом — храм. Откройте его регистрационную книгу — вы там такие имена увидите! Конечно, все это делали потихоньку, никто не афишировал своей религиозности. Теперь же, на мой взгляд, это излишне открыто. Мне очень радостно, что открываются монастыри, что восстанавливаются храмы, но… Раньше мы строем ходили на парад, теперь строем в храмы побежали: все бегут — и я бегу. Но ведь это должно быть выбором и решением, принятым в тишине внутреннего мира...
— А что меняется в человеке, когда он приходит в храм?
— Мне кажется, это у всех по-разному, потому что в храм все очень разными приходят. Кто-то идет креститься, будучи уже, так сказать, состоявшимся в вере человеком. Кто-то — получить те ответы, которых везде искал и нигде не нашел. А кто-то решает для себя, оставаться ли ему в миру или идти в монастырь… Я, к примеру, точно знаю, что не способен стать монахом. Мой образ жизни, образ мысли — не для монастырской жизни. Я вообще не могу назвать себя очень церковным человеком. Могу и комментарий отпустить на основе своих наблюдений в церкви, и критику высказать… Но храм мне необходим.
«Усатый нянь»
и другое кино
— Как Вы думаете, в детском кино должно быть место разговору о христианской нравственности? Или мораль и искусство несовместимы?
— Я убежден, что христианскую нравственность доносить до детей нужно. По одной простой причине: сама по себе она не прорастет. Нужно почву рыхлить, семечки сеять, поливать, обиходить…
| Даже самую светлую идею дети могут просто не заметить или не принять, если вовремя не обратить на нее их внимание. Это непросто, нужно находить верные формы и время для такого разговора. Нужно всегда помнить, что приход к вере — это очень сложный процесс. Лучше всего, когда это делают мама и папа на каком-то конкретном примере: через птичку, листик, кусочек неба в проеме домов… Если кто-то наябедничал или стащил конфету — это тоже повод для разговора. Поводом может стать и фильм. Для себя я четко решил: затрагивать в кино воспитательные темы — это мой долг.
Но для того, чтобы донести до современных детей все эти истины, нужно делать прежде всего качественное кино. Дети ведь сразу чувствуют фальшь, и если, к примеру, сказочный замок выстроен из картона, а царский трон обернут фольгой, то современный ребенок такую сказку смотреть не станет. |
 |
Для хорошей фантастики и приключений нужны спецэффекты, декорации и костюмы, которые требуют огромного бюджета (нужно три миллиона как минимум). Деньги — это большая проблема, но без ее решения детского кино не снимешь. Современный ребенок не будет смотреть суррогат, потому что у него есть компьютерные игры, и это серьезная конкуренция. Аргументы типа: «Посмотри, сынок, потому что это экранизация русской классики», — уже не действуют. Конечно, нам не угнаться за дорогостоящим американским кинематографом. Но выход есть. На мой взгляд, он в разумном соединении наших традиций — по части содержания, и современных технологий — по части формы. В детской картине должны быть нравственность и мораль, но в прикрытой форме и в гомеопатических дозах. Тогда это даст результат и не вызовет аллергии. А вылить на голову ушат кипятка и сказать: «Учись, поганец, как жить нужно!», — на мой взгляд, это не выход.
— Ваш сериал «Сибирочка», как я понимаю, снят в христианской традиции. Признаться, о нем я кое-что читала в интернете, но сама не видела и найти нигде не смогла…
— Его только раз показали на ТВ; был риск, что эту работу вообще никто больше не увидит. Тогда я сделал киноверсию — картину «Тайна сибирской княжны». В основу этих фильмов легло произведение замечательной православной писательницы начала ХХ века Лидии Чарской. Мне пришлось, правда, добавить в сюжет остроту, сильнее закрутить эту историю: все-таки нужно учитывать вкусы и привычки современного зрителя. Очень надеюсь, что Лидия Чарская была бы не в обиде за это. Ее интонацию, ее авторский посыл я старался сохранить. В киноверсии, к сожалению, из-за сокращений со многими эпизодами пришлось распрощаться, так что собственно Чарской и ее христианской морали в картине стало меньше, но общая линия, надеюсь, осталась. Это компромисс, но что делать…
— «Усатый нянь», Ваш полнометражный дебют, стал фильмом на все времена. Почему, как Вы думаете?
— Наверное, есть в этой картине наивность, очарование. Она получилась звонкая, легкая, непритязательная. Может быть, поэтому она так понравилась зрителям. Когда мы снимали этот фильм, то не делали ничего эпохального и ни на что не претендовали.
 |
Наверное, в этом и был секрет успеха. «Усатого няня» с удовольствием смотрели и родители, и дети. За эту работу изначально брался другой режиссер, Евгений Фридман. Но картина у него не пошла: он переезжал в Америку, было много забот… Обратились ко мне: «Вот сценарий, мы тебя запускаем, давай, решайся». |
Я разволновался. Надо же, только окончил ВГИК — и сразу полнометражная картина… Это ведь было несбыточной мечтой. Нужно было проработать ассистентом, потом вторым режиссером, потом снять дебют и только потом — полнометражку. Я взял сценарий, прочел, показал друзьям. Они в один голос сказали: «Володя, отказывайся. Когда снимаешь одного ребенка пяти-шести лет, хлопот не оберешься, не знаешь, что с ним делать. А тут у тебя — 18 бармалейчиков в кадре! Ты провалишь картину, и это тебя отбросит в сторону лет на десять, тебе ничего не дадут снимать». Но что-то подсказывало, что нужно взяться за эту работу. И я взялся. Правда, настоял на том, чтобы переписать сценарий. Я хотел все перевести в игру, в забаву. Для меня в то время сам образ работы был таким: все мы возьмемся за руки и вместе куда-нибудь побежим, куда — не знаем, но это и неважно. Так мы и сняли «Усатого няня», и в течение года его посмотрели около 47 миллионов человек!
После этого меня оставили на киностудии имени Горького, сказали: «Ищи что-нибудь веселое». В то время Георгий Данелия начал снимать фильм по рассказу Виктории Токаревой «Ничего особенного», про русскую деревню. Но его отговорили: «Зачем тебе это? У тебя же прекрасная история про вертолетчика есть!» И Данелия взялся за «Мимино». А я тайком пробрался на Мосфильм, прочитал сценарий Токаревой, и он мне очень понравился. Показал у себя на студии, мне сказали: «Странный какой-то сценарий… Ну, ладно, снимай». Так появился фильм «Шла собака по роялю», за который нам дали множество призов на всесоюзных и международных фестивалях.
Книги, которых нет
— Вы сняли замечательный фильм «Маленькая принцесса» — историю доброй девочки, которая всем и всегда помогала. В основе картины — книга англо-американской писательницы Френсис Бернетт. Почему именно она?
— Творчество Бернетт — христианское. Таких книг теперь практически нет. Чтобы и драматургия, и нравственное содержание произведения были на одинаковой высоте — это уже редкость, к сожалению. Есть вечные книги — «Серебряные коньки» Мери Мейпл Додж, «Без семьи» Гектора Мало, «Рони, дочь разбойника» Астрид Линдгрен… Но это набор уникальный. Буду очень рад, если что-то подобное появится в современной литературе.
— Есть еще один, на мой взгляд, интересный детский фильм по той же Бернетт — «Радости и печали маленького лорда», снятый режиссером Иваном Поповым. Вы видели эту картину?
— Дело в том, что этот проект начинал я. Но мы разошлись во взглядах с продюсером — так бывает у творческих людей… Я настаивал, что главную роль, графа Фаунтлероя, должен исполнить Михаил Ульянов, хотя замечательного актера и режиссера Славу Говорухина я очень уважаю и ценю. Но для меня важно было показать в этой картине, что Господь дарует нам чувства и мы должны расходовать их, как и другие наши таланты. Граф — англичанин во всем, а у англичан принято скрывать эмоции. Вот он их и консервировал. Никому не удавалось размягчить его сердце. Но приезжает его внук, чудесный ребенок, и вскрывает то, что спрятано. Вдруг, к концу жизни, граф понимает, что жил неправильно, что нужно делиться своей любовью, вниманием, заботой… Что все эти чувства — прекрасны.
Но говорить об этом фильме мне сейчас трудно.
— Что-то не получилось?
— Не знаю… Мне трудно судить. Фильм вышел — и это хорошо, слава Богу. Но… поймите меня правильно, ведь я замыслил его по-своему, собрал съемочную группу, подобрал артистов, пейзажи, замок (все это сохранили, кстати, и после моего ухода)… В мыслях уже сложилась, так сказать, идеальная картина. Конечно, она отличается от той, что получилась. В голове у меня по-прежнему другая версия фильма — каким я его увидел. Но не снял. Так тоже бывает…
Ради чего стоит жить
— Владимир Александрович, мы говорили сейчас о фильмах для детей, которые вышли в последние пять-десять лет. Это хорошие работы, но не всякий зритель их видел. Что, на Ваш взгляд, нужно снять, чтобы во время показа кинотеатр был заполнен? На какую картину придут молодые зрители?
— Прежде всего нужно снимать нравственное и одновременно очень качественное кино. Я уже говорил — на детском кино нельзя экономить. Но инвесторы его не жалуют, потому что никто не знает наверняка, когда оно окупится. У нас есть прекрасные режиссеры, сценаристы, которые готовы снимать и писать для детей. Но они не могут работать в стол… Это огромная проблема.
А что касается содержания, то, мне кажется, успехом мог бы пользоваться фильм о современных Ромео и Джульетте. Я не войну кланов имею в виду, конечно, а возраст героев — 14-16 лет — и их чувства. Пусть это будет жесткая, нервная, искренняя история любви, например, мальчика-провинциала и девочки из богатой семьи, когда им говорят, что они никогда не будут вместе, а они, любя по-настоящему, все преодолевают… Думаю, что на такой фильм зритель придет. Для молодежи необходимо снимать фильмы о любви. Причем о любви терпящей, прощающей, побеждающей. Надо показать ребятам, что наркотики, проституция — это не то, из чего жизнь состоит. Что за любовь нужно бороться, что ради любви стоит жить. Что нужно учиться любить… И это будут смотреть! Есть ошибочное мнение, что современной молодежи не интересно ничего, кроме порнографии и стрелялок. Это не так. На историю про настоящую любовь ребята придут, я убежден.